Единственный роман Андрея Платонова — хардкорное чтиво, описывающее брутальный хаос в молодой Советской России и в головах ее граждан.
Советовать читать Андрея Платонова для развлечения довольно странно. Примерно как рекомендовать в качестве варианта отпуска недельный поход через глухую тайгу – досуг достойный, но явно не для всех и требующий специальной подготовки. Зато фанаты экстрима и выживания будут в восторге.
Проза Платонова — именно такой литературный экстрим. Читая его, чувствуешь, действительно чувствуешь, будто проламываешься сквозь дремучий лес: спотыкаешься о вековые корни, ветки хлещут по лицу, идти тяжело — хочется все бросить и упасть. Но как-то бредешь дальше, на упрямстве и желании дойти.

«Чевенгур» в этом плане – самое тяжелое испытание. Этот довольно длинный роман — единственный законченный у Платонова. Есть много рассказов, несколько повестей, из которых самая знаменитая – «Котлован», включенный в школьную программу, но «Чевенгур» стоит особняком. Несмотря на то, что это далеко не самое позднее из произведений Платонова (написан в 1928 г., когда автору не было и тридцати), пожалуй, именно «Чевенгур» — квинтэссенция его творчества. Он очень страшный, мрачный, абсурдный, местами смешной и откровенно нелепый, и полностью посвящен строительству коммунизма. Но в таком виде, что у Маркса и Ленина глаза бы на лоб полезли.
Краткое содержание


«Чевенгур» начинается рассказом о том, что каждые 5 лет людям приходилось уходить из деревень в города или леса из-за неурожая. В это время Захар Павлович оставался один в деревне. Множество изделий прошло через его руки за его долгую жизнь – от сковородки до будильника. Однако у самого героя не было ничего: ни жилища, ни семьи. Однажды ночью Захар Павлович услышал далекий гудок паровоза. На следующее утро он отправился в город.
Служба в паровозном депо стала новой страницей в жизни Захара Павловича. Вновь для него стал открыт искусный мир, давно им любимый. Герой решил удержаться в этом мире навсегда.
Семья Двановых
Переходим к знакомству с семьей Двановых, описывая краткое содержание. «Чевенгур» Платонова — произведение, в котором некоторым ее членам отводится важная роль. Всего в этой семье родилось 16 детей, из которых лишь 7 уцелели. Восьмым ребенком был приемыш Саша. Его отец, рыбак, утонул из интереса. Он просто хотел выяснить, что будет после смерти. Приемыш Саша – ровесник Прошки Дванова. Когда в этой семье еще двойня появилась на свет в голодный год, Дванов сшил приемышу мешок для подаяния и отправил его просить милостыню.
Саша отправился на кладбище, чтобы попрощаться со своим отцом. Приемыш решил, что он наберет сумку хлеба, а затем выроет себе землянку около могилы отца и поселится в ней, раз дома у него нет.
История создания
Роман «Чевенгур» создавался Платоновым с 1926 по 1929 гг. В 1926 или 1927 гг. уже был готов первоначальный вариант романа, повесть «Строители страны», где председатель губисполкома решил построить социализм в отдельно взятой губернии.
В 1928 г. в журнале «Красная новь» были напечатаны 2 отрывка из романа – «Происхождение мастера» и «Потомок рыбака». В 1929 г. в сборнике произведений Платонова «Происхождение мастера» была опубликована под этим же названием первая часть «Чевенгура».
В №6 журнала «Новый мир» за 1928 г. был опубликован отрывок из романа под названием «Приключение», подвергшийся серьёзной правке редактора.
Платонов так и не смог издать «Чевенгур» целиком. Он пытался опубликовать вторую часть, «Вещество существования», в издательстве «Федерация», а затем, потерпев неудачу, в издательстве «Молодая гвардия», в котором даже вышла вёрстка романа с редакторской и авторской правкой.
В 1971 г. были напечатаны два отрывка из романа. «Чевенгур» (вторая часть, исключая «Происхождение мастера») был издан в 1972 г. в Париже, а полный текст вышел в СССР отдельным изданием только в 1988 г.
Саша становится сыном Захара Павловича
Кратко изложим содержание дальнейших событий романа «Чевенгур», сюжет которого, как вы видите, довольно интересен. Через некоторое время Захар Павлович просит своего сына, Прошку, отыскать Сашу. Он объявляет, что берет приемыша к себе в сыновья.
Захар Павлович любит приемыша всей преданностью старости. Саша – ученик в депо, учится на слесаря. Он много читает вечерами, а затем пишет, так как в свои 17 лет не хочет оставлять ненареченным этот мир. Однако Саша ощущает пустоту внутри своего тела. Жизнь входит и выходит сквозь эту пустоту, не задерживаясь. Наблюдая за сыном, Захар Павлович советует ему не изводить себя, поскольку он и так слаб.
Захар Павлович и Сашка становятся большевиками


Далее в произведении, которое создал Андрей Платонов («Чевенгур»), говорится о том, что через некоторое время начинается война, а затем и революция. Однажды ночью в городе слышится стрельба. Утром Захар Павлович вместе с Сашкой отправляются в город, чтобы найти самую серьезную партию и записаться в нее. В одном здании помещаются все партии. Захар Павлович, выбирая лучший вариант, ходит по кабинетам. За крайней дверью, находящейся в конце коридора, сидит лишь один человек, так как другие отлучились властвовать. Захар Павлович спрашивает его, скоро ли наступит конец всему. Тот отвечает, что социализм будет через год. Захар Павлович радуется и просит записать их с Сашкой в эту партию. Вернувшись домой, он объясняет приемышу, как он понимает большевизм. По его мнению, у большевика пустое сердце, из-за чего в него все может поместиться.
И все-таки, про что «Чевенгур»?
Это длинный роман, который охватывает примерно десяток лет: до и после революции 1917 г., героев в нем до черта, они появляются и исчезают довольно неожиданно (некоторые всплывают вновь, но не все), что создает ощущение полного хаоса. Но если попытаться как-то систематизировать суть романа, получится примерно так:
Чевенгур – вымышленный город где-то в степях, где, пока остальная Россия потихоньку выходила из хаоса Гражданской войны, а большевики в Москве понимали, что мировой революции пока не выйдет, и провозглашали нэп, решили своим умом учредить коммунизм — вот так, легко и просто, без всяких теорий, которые крестьяне все равно не понимали.
Для этого в Чевенгуре быстро перебили всех богатых («буржуев» и «полубуржуев»), запретили любой труд и производство, а работать вместо всех поставили солнце – ели что выросло, собственности не имели и даже дома в городе переставляли местами. Все не по Марксу, но какая разница, если его никто не читал.
«Чепурный взял в руки сочинение Карла Маркса и с уважением перетрогал густонапечатанные страницы: писал-писал человек, сожалел Чепурный, а мы все сделали, а потом прочитали, – лучше бы и не писал!
Чтобы не напрасно книга была прочитана, Чепурный оставил на ней письменный след поперек заглавия: «Исполнено в Чевенгуре вплоть до эвакуации класса остаточной сволочи. Про этих не нашлось у Маркса головы для сочинения, а опасность от них неизбежна впереди. Но мы дали свои меры».


Василий Шульженко, «Пастух»
Чевенгурский коммунизм – это очень русская история. Коммунизм, понятый малограмотными людьми как конец света в христианском смысле: наступление царства Божия на земле, только без Бога. Все провозглашено общим и оттого не нужным: чевенгурцы не трудятся, а «просто живут», довольные собственным общественным устройством. Платонов, сам долго живший среди крестьян воронежской губернии, знал, что для огромного числа людей в России все сложные идеи, о которых вещали большевики, выглядят именно так. Коммунизм провозглашает всеобщее счастье — а это что-то настолько магическое и невозможное, что конец света и есть. Еще в первой половине романа, задолго до упоминания Чевенгура, Платонов исчерпывающе формулирует, как народ пошел за большевиками:
«За крайней дверью коридора помещалась самая последняя партия, с самым длинным названием. Там сидел всего один мрачный человек, а остальные отлучились властвовать.
– Ты что? – спросил он Захара Павловича.
– Хочем записаться вдвоем. Скоро конец всему наступит?
– Социализм, что ль? – не понял человек. – Через год. Сегодня только учреждения занимаем.
– Тогда пиши нас, – обрадовался Захар Павлович».
Но если партия строит социализм с реалистических позиций, научным путем, то народ, нетерпеливый и уставший от мучительной жизни, пускается в полное безумие. Еще до упоминания самого Чевенгура в романе всплывает деревня, где жители решили переименовать себя в честь великих людей прошлого, чтобы соответствовать, и теперь там живут Федоры Достоевские и Христофоры Колумбы. В другом месте ярый коммунист, закованный в латы, обороняет революцию от губернских властей, считая их предателями коммунизма. А один из героев, советский Дон Кихот, платонически и безумно влюблен в немецкую коммунистку Розу Люксембург (казнена в 1919 г.) и лелеет мечту прискакать в Германию на ее могилу – истребив по пути всех буржуев. Каждый вкладывает в мифический коммунизм что-то свое, главное и великое, и, спотыкаясь, к нему идет. Но не доходит.
Один из главных мотивов «Чевенгура» – воскрешение мертвых, которое должно наступить после конца света, то есть — при коммунизме. Гибель всего живого густо прет на читателя с самых первых страниц, описывающих жизнь до революции. Умирают от голода дети, топится в озере, чтобы посмотреть, «что там», отец главного героя романа Саши Дванова; сам же Дванов заранее роет себе могилу, чтобы быть ближе к отцу. А коммунизм, верят чевенгурцы, навсегда решит весь неприятный вопрос с умиранием — «там, наверное, вообще, не надо будет умирать», как споет значительно позже Егор Летов. Крушение Чевенгура начнется именно с того момента, когда в нем умирает ребенок женщины, которая пришла туда, чтобы пожить в коммунизме. Что-то здесь не так, если все равно умирают дети. Позже Платонов разовьет эту идею в беспросветно мрачном «Котловане».
Отъезд Сашки
Проходит полгода. Сашка поступает на железнодорожные курсы, после чего учится в политехникуме. Однако вскоре его учение надолго прекращается. Роман «Чевенгур» (краткое содержание) продолжается тем, что партия командирует Александра Дванова на фронт Гражданской войны – в город Новохоперск, расположенный в степи. Захар Павлович сутками сидит на вокзале со своим сыном в ожидании попутного эшелона. Обо всем уже они переговорили, но только не о любви. Когда Александр уезжает, его отец возвращается домой и начинает читать алгебру по складам, не понимая ничего. В этом постепенно он находит утешение.
Дванов в Новохоперске приобщается к воюющей революции. Из губернии вскоре приходит приказ о возвращении Александра. По дороге Дванов ведет паровоз вместо сбежавшего машиниста. Состав сталкивается со встречным. Лишь чудом Сашка остается жив.
Литературное направление и жанр
Роман «Чевенгур» обычно относят к модернистским течениям, но традиции реализма 19 в. тоже сильны в романе, особенно в первой части, где описано детство и юность Дванова. Роман относится к жанру антиутопии, называется также романом-предостережением. В 1929 г. Платонов уже прекрасно понимал, чем обратился для народа социализм, а для писателей – правда о нём.
Когда читаешь «Чевенгур» впервые, поначалу толком непонятно, утопия это или антиутопия. Герои романа, живущие в городе коммунизма, безоговорочно верят в него. Постепенно читатель прозревает и, подчиняясь воле автора, критично относится к происходящему в Чевенгуре и жалеет героев.
История становления Александра Дванова позволяет говорить о традициях «романа воспитания». Путешествие Дванова по пространствам родины в поисках «социалистических элементов жизни» (такое он получил партийное задание) превращает повествование в «роман-путешествие». Собственно история Чевенгура – это утопия или апокалипсис (для его жителей в зависимости от их коммунистических или христианских убеждений), но антиутопия для читателей.
Знакомство с Копенкиным и Чепурным
Александр по заданию губкома отправляется «искать коммунизм» в губернии. Он попадает к анархистам, однако небольшой отряд, возглавляемый Степаном Копенкиным, отбивает его. Причина участия Степана в революции – его любовь к Розе Люксембург. В селении, куда заезжают Дванов с Копенкиным, они находят Соню. Оказывается, она учит детей в местной школе.
Блуждая по губернии, Копенкин с Двановым знакомятся со многими людьми, и каждый из них по-своему представляет новую жизнь и ее строительство. Александр знакомится с Чепурным – человеком, который служит в городе Чевенгуре председателем ревкома. Слово «Чевенгур» нравится Дванову. Оно напоминает этому герою влекущий гул неведомой страны. Чепурный отзывается о Чевенгуре как о месте, где и точность истины, и благо жизни, и скорбь существования случаются по мере надобности, сами собой. Хотя Александр мечтает возвратиться домой, чтобы продолжить свое обучение в политехникуме, его увлекают рассказы о социализме Чевенгура. Он решает отправиться в этот город, описанием которого продолжается краткое содержание.
Путешествие с пустым сердцем. Транскрипция «Чевенгура»
Архив А.П. Платонова. Книга 2. Описание рукописи романа «Чевенгур». Динамическая транскрипция / издание подготовили Е.В. Антонова, Н.В. Корниенко, Е.А. Папкова. – М.: ИМЛИ РАН, 2019
Когда единственный роман Андрея Платонова опубликовали – а произошло это через 20 лет после его смерти и не на родине, а в Европе, зато сразу на трех языках, – одним из самых внимательных читателей был Пьер Паоло Пазолини, искавший и находивший связи русского романа с итальянским кино. Он сравнил сцены романа с облаками, что появляются ниоткуда и исчезают в никуда, по прихоти ветра замирают или несутся (сам Пазолини тоже задумывался о символическом значении облаков – его короткометражный фильм из жизни балаганных кукол называется «Что такое облака?»); так и в «Чевенгуре» автор может уложить целый год в одно предложение, а может пространно описывать незначительный диалог. Пазолини писал о монтажной технике Платонова, возможно, и не зная увлечения писателя кинематографом. Платонов почти сразу же сделал сценарий по «Епифанским шлюзам», а одна его работа с трудом, но добралась до советских экранов («Песчаная учительница»).
Обратил внимание Пазолини и на нечеткость повествования: Начинается неудавшаяся книга, состоящая из повторяющих друг друга эскизов, где ничто не доведено до конца: ни донкихотская деятельность Копенкина, ни роль Саши как идеолога-ленинца, ни роли каждого из символических персонажей, встречи с которыми образуют цепь приключений. Чтобы объяснить эту справедливую критику, нужно кратко изложить историю написания и публикации «Чевенгура».
Современного Мольера никогда бы на сцене не поставили, а Щедрина не напечатали
9–10 июля 1927 г. Платонов пишет жене о возможности подписания с «Молодой гвардией» договора на издание романа в 15 листов. Сохранилось письмо Платонову, написанное покровительствовавшим ему издателем Г.З. Литвиным-Молотовым, главным редактором «Молодой гвардии». Письмо примерно датируется осенью 1927 г., в нем Литвин-Молотов подробно разбирает прочитанную им первую треть новой повести Платонова «Строители страны», в которой действуют персонажи будущего «Чевенгура». Литвин-Молотов приходит к выводу о невозможности публикации этого сочинения: Обычное землеустройство в революционные дни и борьба против нищеты за восстановление хозяйства – это обычное революционное дело выставлено как попытка в срок построить социализм, и с такими комментариями от автора и от лица действующих героев, что в результате их создается лишь одно впечатление: люди беспомощно барахтаются в несбыточных идеях, мечтаниях и делах, в то время, когда надо бороться за человеческий образ жизни, что идея построения социализма – больная идея, что где-где, а в России социализм никогда не будет построен, ибо в такой отсталой стране и думать его построить нельзя. Литвин-Молотов полагал необходимым уничтожить такое впечатление и переделать сочинение в свете партийных решений Сталина и его сторонников о строительстве социализма в одной стране. И Платонов начал редактировать роман, фрагменты которого стали появляться в советской печати в 1928 г. Самым крупным была повесть «Происхождение мастера» (начало «Чевенгура»). Полностью роман издать было невозможно по цензурным соображениям, особенно после такой рецензии Сталина на повесть «Впрок»: К сведению редакции «Красная новь». Рассказ агента наших врагов, написанный с целью развенчания колхозного движения и опубликованный головотяпами-коммунистами с целью продемонстрировать свою непревзойденную слепоту. Надо бы наказать и автора и головотяпов так, чтобы наказание пошло им «впрок». Да и сам Платонов всегда понимал невозможность публичной критической сатиры в советской культуре: Наша эпоха страшно нуждается в двух талантах: типа Мольера и Салтыкова-Щедрина. Но замечательно то, что если бы они появились, то современного Мольера никогда бы на сцене не поставили, а Щедрина не напечатали. Когда я читаю эти строки 1927 г., в которых Платонов предсказывает будущее творчество Булгакова, то мне хочется думать, что Василий Петрович, деверь Агапёнова и невольный соавтор его «Тетюшинской гомозы», это Платонов в той же степени, что и Агапёнов – Борис Пильняк. В итоге «Чевенгур» стал «эмигрантом», в нашей стране вышел только в годы перестройки, а публикация ранней его редакции – «Строителей страны» (увеличивающей текст «Чевенгура» на четверть) растянулась на двадцать лет и произошла благодаря усилиям исследователей Платонова – Н. Корниенко и В. Вьюгина.
Мария Кашинцева с сыном
Помимо советской цензуры роман Платонова подвергся и цензуре семейной. Первоначальная редакция («Строители страны») содержала историю любовного романа Платонова с женой – Марией Кашинцевой (1903–1983), которая прямо заявляла на полях рукописи, что всё это есть в письмах ко мне. О биографической подоплеке романа свидетельствует и автор: Пишу о нашей любви. Я просто отдираю корки с сердца и разглядываю его, чтобы записать, как оно мучатся. Настоящий писатель – это жертва и экспериментатор в одном лице (письмо жене, 3.7.1927). Почти одновременно с романом Платонов попытался сделать из своей переписки столь же драматичную беллетристику (незавершенная повесть 1927 г. «Однажды любившие»). В молодости Мария Кашинцева небезуспешно играла роль роковой женщины. Петербургская девушка, ставшая в силу революционных русских реалий воронежской студенткой, одновременно влюбила в себя женатого красного командира Леонида Александрова (последнее известное его письмо датировано мартом 1922), зав. подотделом искусства губисполкома и театрального деятеля Георгия Малюченко и самого Платонова. Сохранилась записка Платонова Малюченко: Жорж! Я остаюсь. Не протестуй! Я выясню всё и за тебя и за себя. Мне больше нестерпимо. Разрубим узел сразу, чем без конца томиться (1921). Отношение М.А. к своим любовникам было вполне хладнокровным: Ваше чувство не ко мне, а к кому-то другому. Меня же вы совсем не можете любить, потому что я не такая, какою вы идеализируете, и еще – вы любите меня тогда, когда есть луна, или ночь, или вечер – когда обстановка развивает ваши романические инстинкты (М. Кашинцева – А. Платонову, 1921). В 1922 г. Мария родила от Платонова сына (крестным отцом его стал Малюченко), но официальный советский брак согласилась оформить лишь 20 лет спустя.
Женщина охотнее любит мужчину, оборудованного свершенными делами
В известной всем редакции «Чевенгура» есть второстепенный женский персонаж – слободская девочка Соня Мандрова, в которую был влюблен Александр Дванов. В первоначальной редакции романа «Строители страны» Софья Александровна Крашенина, тонкая филигранная красавица, была не только сельской учительницей в Волошине, как и М. Кашинцева, но и покорительницей сердец: Паек учительницы собирался подворно, но учить детей советскому добру крестьяне не посылали и школа была не нужна; мужики заподозрили еще, что учительница их хлебом кормит карогоды своих любовников. В этом мужском хороводе кружатся не только отважный фантазер Александр Дванов (прототип Платонов) и рыцарь-расточитель, он же бережный пахарь Копенкин (прототип Л. Александров), но и выброшенные Платоновым из «Чевенгура» интеллектуальный фокусник Геннадий (прототип Малюченко) и обладатель работающего разума молодой Гратов (тоже Платонов).
В ненависти пролетариата к буржуазии есть ненависть женщины к кухне
Александр Дванов отправляется строить социализм в отдаленных поселениях, потому что знал, что женщина охотнее любит мужчину, оборудованного свершенными делами. У руки любимой можно только уничтожать любовь, а делать ее следует вдалеке от нее – например, в унылых растерянных полях. Геннадий любит ее всю целиком, как революцию, – вместе с плохим платьем, грязью под ногтями от занятий хозяйством, с испорченным зубом во рту и вместе с ее сочувствием революции и надеждой на нее. Гратов воображает любовь как теорию сопротивления живого материала. Он считал, долго ли продержится его сердце, все сжимаемое гайкой тоски. Любовников Софьи объединяет не только предмет поклонения, но и обреченность чувств: Любящий как человек на другом берегу реки: кричит, чтобы его взяли, но на этом берегу нет паромщика. Они предполагают, что Софья нечаянно для себя может полюбить недостойного, потому что и ей присущ любовный фатализм: Я не хочу искать любви, я хочу с ней встретиться нечаянно. Софья любит всех, даже дальнего друга с берегов Ильменя, и никого в особенности, потому что любая женщина хочет иметь всех мужчин, а в одного влюбляется только от отчаяния и невозможности. Все эти сюжетные и чувственные коллизии делают романный текст более понятным, тогда как любой читатель обычной редакции «Чевенгура» удивится московской метаморфозе Сони. Комсомолка и чистильщица машин на Трехгорной фабрике похожа на стойкое растение, способное родить разве что цветок, и без долгих сомнений отдается на кладбище новому знакомцу Сербинову. Для Софьи Крашениной из «Строителей страны» это куда более логичное поведение.
Андрей Платонов с семьей
Сократив до минимума в «Чевенгуре» роль Софьи, Платонов лишился, возможно, краеугольной аллегории своего произведения – сопоставления женщины и революции: Женщина создает на свете мечту, а мужчина ее исполняет. В социализме тоже есть какая-то высота женщины: превратить производительные силы в автомат без человека, – но для него, а самим освободиться и вырваться из этой чадной кухни мира. В ненависти пролетариата к буржуазии есть ненависть женщины к кухне. Но когда исполняешь мечту женщины, то женщину некогда ласкать, и она тебя забывает. – Так и должно быть… На конце любви и революции лежит открытый гроб, а не жалованье (диалог Дванова и Копенкина в «Строителях страны»).
Со своей стороны, и мужчины романа сознательно подменяют любовь к женщине любовью к революции: Социализм потребует неимоверных усилий и добавочных сил от человека. Где же взять эти добавочные силы? Ясно – в любви: то, что человек отдавал молодости, любимой и семье – теперь потребовала революция себе. Человек должен нынче заплатить за продолжение жизни чувством любви, но потом эта плата возвратится социализмом и всемирной дружбой (диалог Гратова и Геннадия в «Строителях страны»).
Россия нашла себе мужа – пожилого и обстоятельного Ленина
Итак, с одной стороны, люди теряют свинцовую тяжесть имущества и тормозящую тоску любви – их уносит поток революции. С другой стороны, Россия в революции искала себе мужа. Она отвергла гимназиста Керенского, как незрелого в половом отношении, и как будто нашла себе мужа – пожилого и обстоятельного Ленина. Был и иной вариант, что Россия останется девицей, то есть вольной анархией.
Взаимосвязь любви и революции актуализировала жизнь без секса, о чем Платонов писал в неизданном при жизни «Эфирном тракте»: Девственность женщин и мужчин стала социальной моралью, и литература того времени создала образцы нового человека, которому незнаком брак, но присуще высшее напряжение любви, утоляемое, однако, не сожительством, а либо научным творчеством, либо социальным зодчеством. Очевидно, что возникнет проблема продолжения рода человеческого, которую герои Платонова – Гратов и Дванов думали разрешить покорением природы: Тогда мертвые будут воскрешены – не из необходимости, а для доказательства творческой силы и вечной памяти человечества. Понимать это «воскрешение мертвых», вероятно, следует символически. Герои Платонова участвовали в жестокой гражданской бойне: Матросы не жалели никакой материальной ценности – жгли печку в августовскую ночь, выкидывали недоеденное мясо большими кусками, стреляли в ночные тени на полях – и может там падал безымянный человек – и по всякому хотели скрытно, бессознательно отомстить людям и миру за близкую утрату собственной жизни. Один матрос стрелял из нагана по светящимся окнам встреченных железнодорожных будок. Современник Платонова, живший по ту сторону океана Уильям Фолкнер писал не только о жителях Йокнапатофы. Целый ряд его произведений посвящен ветеранам Великой войны, которых он называл «мертвецами». Все эти мертвые старые пилоты не чураются свободных отношений, и например, в романе «Пилон» действует странная семья странствующих авиаторов в составе двух мужей и одной жены, что сравнимо с сексуальной практикой персонажей Платонова.
Андрей Платонов с семьей
Но это было дальней перспективой, а близкая реальность страны полнокровия оказывалась иной. Платонов осудил социалистическую утопию донского города Солнца – Чевенгура: От едкой свежести воздуха и противостояния солнца на тот город можно смотреть только сквозь слезы. Его устрашает и прямая демократия чевенгурцев: ежедневные собрания для усложнения общей жизни; и чтобы хоть одна девка всегда голосовала напротив; а поскольку вопросы решаются большинством, то когда-нибудь неграмотные постановят отучить грамотных от букв – для всеобщего равенства. Чевенгурский совет – пародия на дилемму любви и революции Софьи и ее любовников: он заседает в церкви, по окончании мужчины по согласию ласкают в алтаре Клабздюшку – свою коллегу (в поздней версии Платонов поменял имя чевенгурской партактивистки на более благозвучную Клавдюшку).
В ранней же редакции романа Платонов шел еще дальше в своей критике, говоря не о частном случае безумного Чевенгура, но о большевистской политике в целом:
Будущий мир будет сделан все-таки кувалдой, а не песней и не красотой
Большевики устроили народу предвоспитательный понос, чтобы тело не нервничало и не сопротивлялось под лезвием революции.
Прогресс движется на ржаном зерне, – надо искать способов обнищания, увеличения несчастий человека; бедствие – вот единственный воспитатель.
Гораздо выгоднее и прочнее владеть людьми, чем временным и неживым имуществом.
Результаты проведения этой губительной доктрины наблюдает уже в начале 1920-х гг. появляющийся ближе к концу романа член железной и оптимистической партии Сербинов: Многие русские люди с усердной охотой занимались тем, что уничтожали в себе способности и дарования жизни: одни пили водку, другие сидели с полумертвым умом среди дюжины своих детей, третьи уходили в поле и там что-то тщетно воображали своей фантазией.
Будущий мир будет сделан все-таки кувалдой, а не песней и не красотой
В первоначальной версии романа Платонов придумал замечательный мотив с культурой Ренессанса: Близко шумело море, спускалась усталая птица ночи, Данте шел в горах и ждал, когда с конца света начнется поход солнца над круглым лабиринтом ада. Он ждал Беатриче на каменном мосту, выстроенном по чертежу да Винчи, чтобы освежить свое сердце от адового чада. Беатриче не выходила – или ее заласкал муж, или она мертва. У нее есть муж, у Данте – жена: эти спутники назначены обрезать крылья, чтоб человек не обратился в летящий дух и в ничто, а рос прочно в почве. Беатриче он любил как крест на своей могиле, где рано улеглись его великие надежды. Беатриче ищет нового бога для лучшего сотворения мира, – или мужчину, одаренного как бог. Данте знал про скорбь Беатриче и ночью чертил на своей груди царапины ногтем – в знак своего убожества и злого бессилия.
Очевидно, что образы Данте и Беатриче должны были помочь выстроить параллель «Новой жизни» в романе Платонова. Но и эта идея была подвергнута уничижительной критике и со стороны жены, и со стороны цензуры:
Кончилась жизнь – началась ржавая вечность!
Чевенгур


Город просыпается поздно, так как жители его отдыхают от длившегося веками угнетения. Революция завоевала Чевенгуру сны, основной профессией в городе сделала душу. Копенкин, заперев в сарай Пролетарскую Силу (так зовут его лошадь), идет по городу. Он встречает нездешних по лицу, бледных по виду людей. Копенкин спрашивает Чепурного, что делают днем эти люди. Тот отвечает, что основная профессия – душа человека, а ее продукт – товарищество и дружба. Копенкин предлагает организовать немного горя, чтобы в Чевенгуре не было совсем уж хорошо. Он считает, что для хорошего вкуса коммунизму следует быть едким.
Герои назначают специальную комиссию, которой поручено составить списки буржуев, уцелевших во время революции. Этих буржуев расстреливают чекисты. Чепурный после расстрела радуется, что теперь наступил покой.
Копенкин после расправы все равно не ощущает коммунизма, которым так гордится Чевенгур. Краткое содержание по главам продолжается тем, что чекисты начинают выявлять полубуржуев, от которых следует освободить жизнь. Их собирают в толпу, а затем выгоняют в степь. Оставшиеся в городе, а также прибывшие по призыву коммунистов пролетарии в скором времени доедают остатки пищи, принадлежавшей буржуазии. Они уничтожают всех кур в Чевенгуре, после чего питаются в степи одной растительной пищей. Чепурный ждет, что само собой выработается окончательное счастье, так как счастье жизни – это необходимость и факт. Лишь Копенкин ходит по городу в грусти. Он ждет приезда Александра и его оценки построенного в Чевенгуре коммунизма.
Бесполезные изобретения
Далее следует рассказать о двух изобретениях, описывая краткое содержание. «Чевенгур» продолжается тем, что приезжает Дванов, однако он не видит снаружи новой жизни: наверное, коммунизм скрылся в людях. Александр догадывается, почему этот строй так желают большевики-чевенгурцы: коммунизм – конец времени, конец истории. Только в природе идет время, а в человеке стоит тоска. Александр изобретает особый прибор, с помощью которого можно обращать солнечный свет в электричество. Для этого из всех рам в городе вынимают зеркала, а также собирают все стекло. Однако прибор этот не работает. Строят башню, на ней зажигают огонь для того, чтобы он указывал путь блуждающим в степи. Однако на свет маяка не является никто.
Проверка, приезд женщин
Товарищ Сербинов приезжает из Москвы для проверки деятельности чевенгурцев. Он отмечает, что труды их бесполезны. В оправдание Чепурный говорит, что они работают друг для друга, а не для пользы. Сербинов в своем отчете пишет, что в городе много счастливых вещей, но при этом бесполезных.


В Чевенгур для продолжения жизни доставляют женщин. Молодые жители города только греются с ними, будто с матерями, так как уже наступила осень и воздух совсем холодный.
Как и о чем пишет Платонов?
Нельзя говорить о «Чевенгуре», да и о любой книге Платонова, без упоминания его манеры письма. Она, мягко говоря, странная: этот автор изобрел свой собственный, совершенно невыносимый и при этом очень яркий стиль. Каждая фраза у Платонова искорежена, перенасыщена повторами, усилениями, бюрократизмами и ломает кости привычному русскому языку. Иногда читать очень тяжело:
«По наущению Чепурного Прокофий дал труду специальное толкование, где труд раз навсегда объявлялся пережитком жадности и эксплуатационно-животным сладострастием, потому что труд способствует происхождению имущества, а имущество – угнетению; но само солнце отпускает людям на жизнь вполне достаточные нормальные пайки, и всякое их увеличение – за счет нарочной людской работы – идет в костер классовой войны, ибо создаются лишние вредные предметы».


Гелий Коржев, «Беседа»
А иногда, наоборот, его тяжелая манера позволяет воплотить на бумаге тонкие, пронзительные чувства, охватывающие героев, ярче, чем конвенциональный литературный язык:
«Он выглядывал в окно за прохожим и воображал о нем, что мог. Прохожий скрывался в глуши тьмы, шурша на ходу тротуарными камешками, еще более безымянными, чем он сам. Дальние собаки лаяли страшно и гулко, а с неба изредка падали усталые звезды. Может быть, в самой гуще ночи, среди прохладного ровного поля шли сейчас куда-нибудь странники, и в них тоже, как и в Саше, тишина и погибающие звезды превращались в настроение личной жизни».
Такой шероховатый, нарочито неправильный стиль Платонов использовал осознанно – его миссия заключалась в описании доселе небывалых, невероятных событий, творившихся в России сто лет назад: к власти пришли странные люди, провозгласившие движение к невероятному счастью, и, с руками по локоть в крови, молодые советские граждане строили свой коммунизм, как умели. Пушкинским языком про такое не напишешь.
Казаки занимают город, отъезд Дванова
В город прибегает человек и говорит, что на Чевенгур направляются казаки на лошадях. Начинается бой, в котором погибает Сербинов, думая о Софье Александровне. Чепурный также погибает, как и другие большевики. Казаки занимают город.
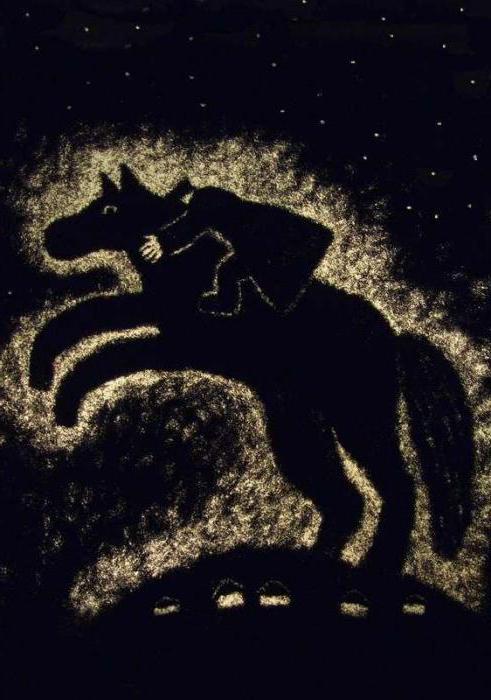
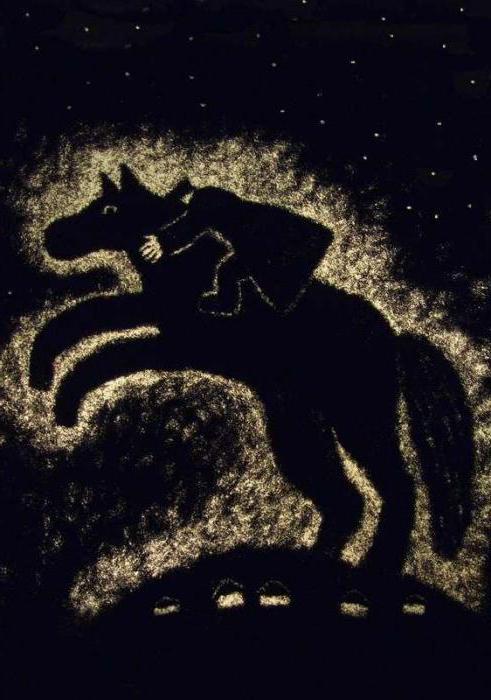
Александр остается в степи возле Копенкина, находящегося при смерти. Когда тот умирает, Александр садится на Пролетарскую Силу и уезжает подальше от города, в открытую степь. Долго едет Дванов. Он проезжает деревню, где когда-то родился. Герой прибывает к озеру, где когда-то умер его отец. Он замечает удочку, позабытую им еще в детстве на берегу. Дванов заставляет лошадь зайти по грудь в воду, после чего сходит с седла в поисках дороги, по которой прошел когда-то его отец.
Герои и образы
Александр Дванов – главный герой романа. Читателю неизвестно имя его любопытного отца-рыбака. Дванов получил фамилию от приёмной семьи Двановых, взявшей его после смерти отца и выгнавшей побираться через 4 года. Возможно, Платонов хотел сделать фамилию говорящей. То есть подчёркивал некую двойственность Дванова или то, что они с Прокофием Двановым двойники.
Внешность Дванова становится известна из фотографии, которую Сербинов видит у Сони. Лицо у него незапоминающееся, а глаза запавшие, словно мёртвые, похожие на усталых сторожей.
Дванов – человек, ни в чём не определившийся: Чепурный считает, что в нём «слабое чувство ума». Саша сам не знает, что для него хорошо. В партию он вступает потому, что об этом попросил Захар Павлович, с Соней встречается случайно, а уезжает от неё вообще непонятно почему. Очевидно, Дванов отражает отношение самого Платонова к происходящему в стране.
Сводный брат Дванова Прокофий – антипод Дванова. Он с детства ищет выгоду во всём. У Прокофия «чёрные непрозрачные глаза и отверстый, ощущающий и постыдный» нос, а также «старый экономический ум» хищника.
Степан Копёнкин – рыцарь революции. Его портрет непримечателен: «Малого роста, худой и с глазами без внимательности в них». Лицо у него «международное», а черты личности стёрлись о революцию. Копёнкин путешествует на коне по имени «Пролетарская Сила», больше похожем на коня былинного богатыря, что Платонов выражает гиперболой: чтобы насытиться, конь съедает «осьмушку делянки молодого леса» и запивает «небольшим прудом в степи».
Перед взором читателя проносятся самые странные личности – герои заповедника эпохи революции и гражданской войны. Чего стоит уполномоченный волревкома Степан Мошонкин, переименовавшийся в Фёдора Достоевского, и Недоделанный, лишённый документов и поэтому обозначенный как прочий неопределённого пола. Продолжают коллекцию чудаков лесник Биттермановского лесничества, который искал истину в плохих книгах, немногочисленные члены коммуны «Дружба бедняка», созданной для усложнения жизни, Пашинцев из «Революционного заповедника», который сидит в подвале на горе гранат в латах и панцире, «сирота земного шара», живущий «без всякого руководства».
Финал
В Чевенгур прибывает Захар Павлович. Он ищет Александра. В городе нет никого из людей, лишь у кирпичного дома сидит плачущий Прошка. Захар Павлович просит его привести ему Сашку за деньги, но Прокофий обещает сделать это даром и отправляется искать Дванова.
На этом заканчивается краткое содержание. «Чевенгур» — произведение, впервые опубликованное в СССР только в 1988 году. Сегодня, наконец, мы имеем возможность познакомиться с творчеством замечательного писателя Андрея Платоновича Платонова. Одним из лучших его произведений является роман «Чевенгур». Читать краткое содержание не так интересно, как знакомиться с оригиналом этого романа. Безусловно, Андрей Платонов — выдающийся художник слова.
Зачем читать «Чевенгур»?
Читать этот роман почти так же сложно, как книги Уильяма Берроуза, только вместо потока наркотиков и секса здесь – чистый коммунизм. Написан он по-платоновски плотно и коряво, так, что легко скользить взглядом по страницам не получится, приходится вчитываться в каждую фразу, или, когда уже совсем невмоготу, перепрыгивать абзацы по диагонали, но легче от этого не становится – в голове шум от всех «солнце упиралось в землю сухо и твердо» и «растение всякого знания».
Вообще, знакомиться с Платоновым с «Чевенгура» — задача неподъемная. Советую начать с его рассказов и сказок, очень поэтичных: «На заре туманной юности», «В прекрасном и яростном мире», «Фро», потом, если понравится, перейти к «Котловану», и если получится осилить его, уже после читать «Чевенгур». Сквозь эти заросли действительно продираешься с трудом, но если продерешься, выходишь на свет немного другим, поняв многое про революцию, русский народ и весело-страшные события вековой давности.
🗹








