Серия статей представляет собой перевод диссертации «Confronting the Shadow:
A Power Electronics Praxis» («Конфронтация с тенью: практика power electronics») от Майкла Бленкарна. Повествование ведется от лица автора (Майкла).
«Шум вырывает нас из себя и выбрасывает в рассеивающийся ландшафт», Иэн Синклер.
Трансгрессивность
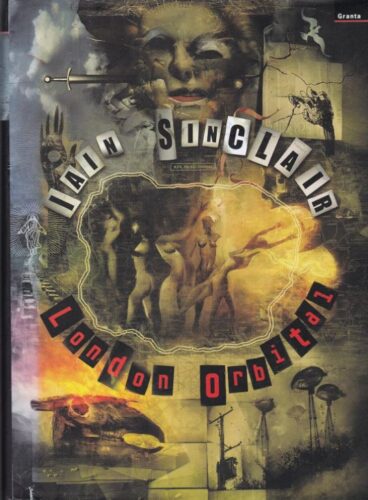
Поросший мхом дверной проем все еще хранит обломки стершихся досок. Возможно, здесь была дверь; это остается неясным. Мы пригибаемся над влажными, набухшими досками, чтобы пробраться внутрь. Пролом был проделан снаружи, дерзкое поползновение было совершено давным-давно; выемки старые, древесина под слоями потрескавшейся лазурной краски прогнила под воздействием беспощадной стихии. Заходя внутрь, мы нарушаем закон; колючая проволока, растянутая по периметру с намерениями запугать и остановить, не справилась со своей задачей. Мой полевой аудиорекордер уже готов к работе, я чувствую прилив волнения в нетерпеливом ожидании результата. Мы собираемся исследовать территорию заброшенного свинцового завода в Элсвик.
Крутой берег и близко нависающие деревья рассеивают шепот реки Тайн, находящейся в нескольких метрах от вас. Вверх по берегу — осыпающиеся остатки ступенек, опасные бетонные плиты и блеск влажной грязи, которая никогда полностью не высыхает в душном воздухе под сводом листвы. Мы взбираемся по ступенькам, грязь прилипает к нам, несмотря на наши усилия; мы держимся за ветви, чтобы устоять. На вершине холма нашему взгляду открывается пространство из растрескавшегося бетона, переходящего в груды кирпичей и щебня слева от нас, пронизанное искривленными балками из ржавого металла, остатками арматуры, когда-то поддерживающей конструкцию. Останки невысоких зданий кишат визуальным шумом конкурирующих граффити. Вдруг мне на ум приходят полевые записи в Эдинбурге, сделанные пять лет назад, когда я изучал склеп на Калтон-Хилл (всего в паре могил от Дэвида Юма); целое покрывало использованных игл, блёкло светящихся в рассеянном облачном свете шотландского лета. Если такой диссонанс можно увидеть даже в благопристойном месте, что, черт возьми, я ожидал обнаружить здесь?

Атмосфера этого места пугает; она одновременно приливает и откатывает, встревоженная и обвиняющая нас во вторжении. В своей книге «The Weird And The Eerie» Марк Фишер предлагает два параллельных определения жуткого: «недостаточное отсутствие» (что-то присутствует там, где ничего не должно быть) и «недостаточное присутствие» (ничего нет там, где должно быть что-то). Заброшенные объекты, такие как свинцовый завод, возможно, соответствуют обоим определениям или выходят за их пределы. Постоянное присутствие руин в городе, казалось бы, одержимом бесконечным строительством новых многоквартирных домов, — это недостаточное отсутствие; ампутация его функции, тревожная необъективность — это недостаточное присутствие. Эта многогранная, усиленная жуткость — аффект, достаточно мощный, чтобы сформировать и поддержать некоторый опыт; это может подтвердить любой, кто когда-либо корпел над книгами с фотографиями заброшенных зданий, такими как образцовая «Beauty In Decay».

Мы не будем детально исследовать здания — ни фигурально, ни буквально. Зияющие дыры в бетонных полах, ведущие во тьму, легко отпугивают любопытных. Мы спускаемся по лестницам, где кафельные стены украшены беспорядочными трещинами, но тьма внизу слишком глубока. Там может быть что угодно. В другом здании пугающая пропасть демонстрирует обломки, подозрительно торчащие из застоявшейся воды как минимум двумя уровнями ниже. Посетители, которые были до нас, установили шаткий мостик из досок для спуска; мы отказываемся по нему идти. Я вообразил себе приятеля, который оказался смелее меня и рискнул подойти к краю, чтобы лучше рассмотреть картину, но поскользнулся и исчез в мутной воде или провалился в какую-нибудь расщелину, ведущую неизвестно куда. Фотограф экспедиции берет на себя опасную работу по запечатлению каждой детали. Я записываю звуки поврежденных кирпичей и обломков металла, стоя на свету. Взбираясь на огромную груду обломков и развалин, я поскользнулся и порезал ногу. Я не стал рассказывать медсестре, которая вколола мне прививку от столбняка, как это произошло. На более высоком плато из бетона, треснувшего под нитями длинной желтоватой травы, я нашел загадочную форму из покореженного лома. Я не мог даже представить, как она применялась в своем первоначальном виде. Поразмыслив немного, я сдался и сильно потряс ее. Звучит потрясающе: интригующий хор жалующегося металла, который, прежде всего, уже достаточно пострадал. К моей травме добавилась еще и обиженная жалоба; когда мы все же решили уходить, солнце скрылось за горизонтом; у меня было почти два часа записей полевых звуков.
На месте происшествия появился худощавый мужчина лет тридцати, притаившись у одного из зданий с неубедительным безразличием. Он озадаченно наблюдает, как мы уходим. Я чувствую: даже ворвавшись сюда, мы создали еще больший хаос, игнорируя устоявшиеся формы социальных девиаций, которые обычно происходят здесь. Наше поведение не соответствует этой предписанной модели нарушений или ее фиксированным ролям; мы даже не проявили элементарную благопристойность в плане покупки или продажи наркотиков. Мой кайф совершенно естественного рода. Я чувствую себя привилегированным, будучи посвященным в важную тайну, подтверждающую мои подозрения о том, что звучание городского пространства может быть наиболее глубоким в тех местах, которые потеряли свою первоначальную функцию или были лишены ее. Эта потеря функции обеспечивает открытость звуковых характеристик пространства, предлагает возможность кристально ясного творческого рассмотрения забытых воспоминаний города.
Два часа записей, собранных с помощью портативного рекордера, станут основой для поистине уникальной индустриальной музыки. Я стремлюсь создать музыку, которая откликается на свое место происхождения посредством спасенных фрагментов своего словаря, переосмысливает то, что другие выбросили как бесполезное. Можно прочесть эту практику в ситуационистском ключе — как игру; неумышленно игнорируя экономические раны, нанесенные городу и его жителям калечащей политикой – постепенной ампутацией функциональной способности сообщества к самообеспечению, – мы стремимся отделить положительные элементы от травмирующих обломков. Я не отвергаю такое прочтение – ведь вовлечение себя в такие поврежденные пространства напоминает сопротивление политике, – но я считаю, что в подобной практике есть более глубокие и продуктивные социополитические аспекты.
Индустриальные мусорщики
Музыкальный жанр, которым я занимаюсь – индастриал, – по своей классификации уже подразумевает соперничество топографий городского пространства, его фабрик и выхлопных газов. Окружающая среда, раскалываемая разнообразным шумом, угнетенные рабочие, истекающие на мрачные улицы, залитые натриевым свечением. Призрачное эхо заводов Elswick Lead Works безупречно сочетается с этой атмосферой. Такая политическая и эстетическая значимость была вложена в индустриальную музыку ее основоположниками Throbbing Gristle. Эта музыка неотделима от городского пространства, и размеры этого влияния должны быть учтены. Изучая проблемы психического здоровья через индастриал, я неизбежно рассматриваю эту тему в городском контексте. Ряд авторов, писавших в разных областях и разные времена, помогли мне осмыслить эту связь между моей практикой и городским пространством; мы еще коснемся их идей в ходе этого обсуждения.
Внедрение полевых записей в сырье индустриальной и шумовой музыки позволяет воссоздавать и видоизменять осколки городского опыта в творчестве, тем самым общаясь с городом на его собственных агрессивных языках и диалектах. Документальный фильм «City Ruins» исследует сложные отношения между нойз-артистами и городом Кливленд, Огайо; он содержит множество актуальных истин и иносказаний о симбиозе между создателями шумовой музыки и их окружением. Артисты, опрашиваемые на протяжении двух часов документального фильма, обнажают свои мотивационные и эстетические основы, лежащие в городской нищете, отчуждении и пренебрежении — отчаянная реакция на суровость унылого городского пейзажа с его заводскими трубами. Это глубоко резонирует с моим собственным мировосприятием; я вырос в Мидлсбро (бывшее графство Кливленд), где было много химических производств и заводов в устье реки Тис; я постоянно видел эти угрожающие строения, их дым, тусклый блеск труб, ржавые пятна на горизонте, сернисто-оранжевое ночное небо. Недаром этот пейзаж вдохновил кинорежиссера Ридли Скотта на воссоздание тех же самых аллюзий в символичных первых кадрах «Бегущего по лезвию»; впечатляющий, но тревожный панорамный вид, где языки пламени облизывают пятнистый, застоявшийся пах задушенного неба; инвертированное грязное производство тянется по направлению к выхолощенному звездному пейзажу с искусственной подсветкой.
Естественная среда обитания индустриальной музыки — город. Это форма музыкальной практики и выступлений, требующая поддержки чрезвычайно узких субкультур, специализированных площадок и возможностей, которые в логистическом плане намного проще обеспечивать в городской среде; места, подходящие для концертов, местные организаторы и маленькие лейблы. Нойз-музыка черпает значительную часть своих звуков из повсеместного шума и агрессивного гудения городского пространства — переработанный металл, скрежещущие электроинструменты, грохот тяжелой техники и хруст разбитого стекла. Нойз процветает в конфликтных, трансгрессивных (и разрушенных) пространствах, в сопротивляющихся микрокультурах, и живет близко к своим источникам — свалкам, помойкам, магазинам подержанного и неисправного оборудования, крошечным концертным площадкам с необычайно эмпатичными или отзывчивыми владельцами.
Мне вспоминаются тайные экспериментальные шумовые выступления, проводимые перед аудиторией, состоящей из нескольких десятков слушателей, устно проинформированных о мероприятии, в темном, ветхом складском помещении, встроенном в арки моста Байкер; шаткая деревянная лестница, скрытая за мощной металлической дверью, ведущая в прокуренное темное пространство, заполненное людьми, оборудованием и прочим хламом, без других выходов (это кошмар для здоровья и безопасности, который я не хочу повторять). Психоделический, абстрактный звук на оглушительных громкостях, отражающийся от изогнутой кирпичной арки сверху, как будто вторящий грохоту проезжающего транспорта над головой. Или концерты в более подходящих условиях, ночи шума в конференц-зале паба Chillingham, в который приходилось пробираться через дверь с надписью «женский туалет»; для мужчин это уже нарушение — еще до оплаты входного билета. Шумовая музыка процветает в таких условиях; но зарождается и взращивается она в городских разломах.
Харш-нойз, power electronics и индастриал – все это является городской музыкой, возникающей в тени стагнирующей промышленности, загрязнения и социальной дисфункции. С момента своего зарождения культура индастриал-музыки COUM Transmissions/Throbbing Gristle была заинтересована в сопротивлении: против норм, против социокультурной гегемонии, против разъедающей неолиберальной экономики. Индастриал-музыку, заинтересованную во вскрытии обломков человеческого уродства, пугающей безразличности государственного аппарата, лицемерия, коррупционных поручений и аккуратного замалчивания со стороны популярных СМИ, — индастриал-музыку часто отвергают как пустую провокацию, не справляющуюся со своей обязанностью по критике и не отражающую явно ни одну политическую позицию. Разногласия, связанные с индастриал-музыкой всех направлений, неоспоримы; но ее основной идеей остается сопротивление, отказ от status quo.
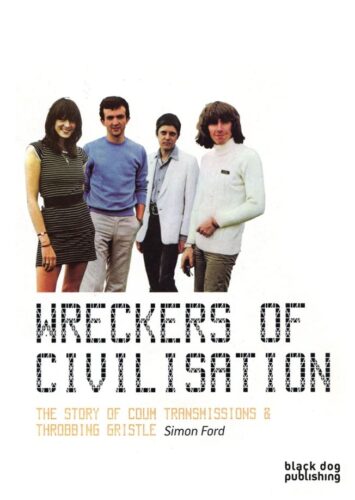
Что иронично: это сопротивление явно обусловлено возможностями города. Можно также утверждать, что его отношение к городскому пространству фактически паразитическое, ведь страдания других представляются как эстетический артефакт. В этом есть зерно истины, поскольку ни одна модальность не является сама по себе благоприятной или вредоносной, и поэтому есть индустриальные и шумовые артисты, явно демонстрирующие антисоциальный садизм или провокацию; проект Grunt Микко Аспы является одним из наиболее заметных и влиятельных представителей первой категории; отталкивающие, возмутительные расисты Xenophobic Ejaculation явно стремятся ко второй группе (провокационной). Микко Аспа надевает во время своих выступлений кожаную «маску садиста». Одни артисты демонстрируют нигилистическое смирение с дисфункциональностью мира, другие действуют иначе. Питер Дж. Вудс подчеркивает это растущее идеологическое разнообразие, называя его «расширением идентичностей, представленных в power electronics». Попытка маргинализировать определенную школу мысли в этом отношении является критической тупиковой ситуацией. Безоговорочное первенство обычно отдается творческому замыслу каждого отдельного артиста, и поэтому, — даже в большей степени, чем в других жанрах, — оценивать артистов следует на индивидуальной основе, делая собственные выводы (следует помнить о сознательной ответственности, которую жанр возлагает на слушателя как активного соучастника музыкального акта).
Аутсайдерский менталитет индустриальной и шумовой музыки способствует разрастанию подобных взглядов; концентрированное городское пространство позволяет единомышленникам взаимодействовать между собой в социуме. Доступные места и площадки, терпимые к такой нишевой аутсайдерской музыке, «точки соприкосновения» — от местных оазисов, таких как Star & Shadow Cinema в Ньюкасле или Old Police House в Гейтсхеде, Wagon & Horses в Бирмингеме, Hinoeuma/Slimelight в Лондоне, до американских точек, таких как Speaking Tongues в Кливленде (Огайо), RRRecords в Лоуэлле (Массачусетс), Utmarken в Гётеборге (Швеция), Freak Animal в Лахти (Финляндия), бесчисленные «Live Houses» в Японии и т.д. — создают достаточную аудиторию для поддержания этого движения, способствуют сетевому взаимодействию и органическому распространению активной социальной сцены артистов, продвижению «сообщества изоляции».
Это фундаментальное противоречие между убеждениями и беспринципностью, основанное на конкретных экологических и социальных условиях, является энергетическим диссонансом, который движет индустриальной и шумовой музыкой, корневищем ее нигилистической несдержанности, ее гонзо-одержимости, лихорадочного отклонения от явно выраженных значений и позиций. Это находит очевидное отражение в творчестве Иэна Синклера: его лихорадочная приверженность оккультным фантазмам таит под собой искусно сбалансированное сочетание политической возмущенности и подрывного озорства. Это сопротивление, позволяющее бороться с осознаваемой несправедливостью, неравенством и недостатками самым прямым и животворным образом – через огромный арсенал городских звуков — является неотъемлемой частью моей собственной практики. Я не несу ответственности за ограничения и недостатки такого подхода. Мари Томпсон, с другой стороны, довольно скептически – по понятным причинам – относится к контркультурной эффективности или антикапиталистической аутентичности формы, которая напрямую зависит от потребительской электроники и физических медиа. В таком случае подрывной потенциал материалов, возможно, уже был рекуперирован капиталистическим статус-кво. Как пишет Марк Фишер: «Посмотрите, к примеру, на образование устойчивых ‘альтернативных’ или ‘независимых’ культурных зон, которые бесконечно повторяют старые жесты бунта и противостояния, словно это происходит впервые». Мой ответ на эту резкую критику следующий: необходимо сосредоточиться на качестве индивидуального сопротивления, утвердить главенство – хотя бы в этом тезисе – субъективного опыта как потенциально трансформирующего аспекта. Хрупкость сопротивления сама по себе становится активирующей силой. Диссонанс этого сопротивления, заключенный в сосуд (vas mirabile, если принять алхимические термины Юнга) творчества, вечно балансирует на грани объединения (coniunctio; подробнее об этих юнгианско-алхимических терминах вы узнаете далее). Творческая практика становится точкой опоры, с помощью которой артист выпускает безграничную внутреннюю энергию этого потенциала, останавливаемого в зените своего предельного напряжения, всегда на грани, едва сдерживаемого композиционным руслом.
Записи, сделанные мною, представляют собой одновременно и артефакты, и доказательную базу имманентной изменчивости городского пространства и шума, который эта качественная характеристика генерирует. Если использование полевых записей в контексте художественного выражения можно объяснить как общение с городом на его собственном языке, то сам процесс полевой записи является процессом составления индивидуальной лексики и словаря, следуя интуитивными путями потенциала и трансгрессивного мышления. Вытягивание разрозненных смыслов, новые способы взаимодействия с пространством, погружение в сленг; самоидентификация с определенными наречиями, возникающими из шума города. Эта практика является прямым аудиальным когнатом и дополнением к феномену городского исследования (Urbex): трансгрессия бракованного пространства в эстетических целях, оценка артефактов городского пространства как ненамеренных реликвий и неизбежных скульптур расколотого общества; живое искусство, воссозданное из обломков функционала и выхоженное природой с помощью процессов разложения, разрушения и эрозии. Полевая запись превращает компрометирующие улики городского пространства в лишенные контекста каналы для личного выражения и самореализации, озвучивает его подавленные воспоминания, чтобы они не исчезли.
Благодаря портативному стереозаписывающему устройству в ходе этого исследования я собрал большую библиотеку полевых записей из различных локаций по всей стране. Этот запас исходного материала стал основой для альбомов Cauldhame. Каждый из этих треков родился из записанных в полевых условиях звуков, случайных встреч со скрытыми звуковыми источниками городского пространства, ожидающими только того, чтобы их распознали и проявили. Наиболее значимым среди моих записей является альбом «Saturnine»; именно здесь задействован материал, собранный в заброшенном свинцовом заводе Elswick Lead Works, переплетая скрытую культуру городских исследований с психогеографическим звуковым сбором и социополитическим погружением.
Вопросы памяти
При обсуждении ментального здоровья в городской среде необходимо рассмотреть историю оказания психиатрической помощи, особенно в Великобритании. Я считаю деинституционализацию — системный переход от викторианских приютов для душевнобольных к организованной психиатрической помощи, который произошел в основном в 1980-х годах, — ключевой вехой в данной сфере. Анализируя судьбу психиатрических больниц по всему миру после деинституционализации, Мун, Кирнс и Джозеф выдвигают две ключевые идеи, которые помогают понять политическое управление городским пространством и этические дилеммы застройщиков при повторном использовании зданий и территорий, поскольку они делают решающий выбор в вопросах сохранения или уничтожения прошлого. Эти два элемента концепции называются стратегическим забвением и выборочным запоминанием. Полагаю, что эти термины понятны сами по себе. Они описывают регулирование восприятия общественной среды во времени и в пространстве. За этим кроются осознанные, политически или экономически мотивированные попытки управлять тем, какие физические или нематериальные проявления памяти сохраняются обществом в целом. Таким образом, стратегическое забвение и выборочное запоминание, действуя параллельно, оказывают влияние на понимание и память граждан, а также на коллективные социальные движения и флуктуации, которые позволяют формировать и изменять историю. Эти две идеи являются развитием предшествующих критических концепций, таких как, к примеру, коммеморативная забывчивость Ландзелиуса. Описывая выборочное запоминание, Мун, Кирнс и Джозеф подчеркивают, что в этом феномене «память – это повторное воспоминание, воссоздание прошлого, когнитивный процесс, который они описывают как ‘неизбежно неполный’». Эти идеи могут быть эффективно применены для более широкой критической оценки культурной топографии всего городского пространства, но как механизмы они, возможно, наиболее заметны в контексте перестроенных психиатрических приютов.
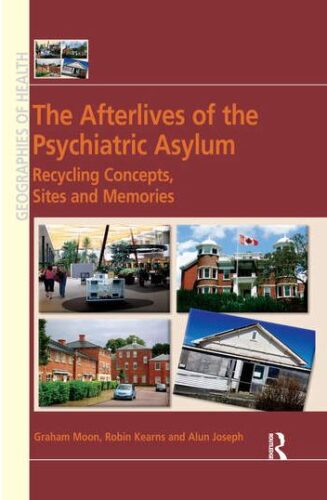
Recycling Concepts, Sites and Memories» (2015)
В случае с викторианской психиатрической лечебницей: ее здание может быть реконструировано, использовано под конференц-центр или отель, декоративный экстерьер сохранен, роскошные прилегающие территории сохранены, но при этом поставлен какой-нибудь скромный, ненавязчивый мемориал; здесь мы говорим о выборочном запоминании. При этом условия внутри приюта, связанные с неприятными или тревожными ассоциациями, скорее всего, полностью исключены посредством реконструкции; все следы прошлого аккуратно подчищены. В результате такой стратегии выборочно стираются неприятные аспекты, в то время как сохраняются памятные территории и декоративный экстерьер. Эстетические свойства здания подчеркнуты внешне, при этом внутри оно представляет собой архитектурный отпечаток истории, который не только может, но и должен быть скрыт, облагорожен с целью привлекательности для посетителей и прибыльности для владельцев. Оригинальная функция места становится менее заметной и менее понятной.
В свете исчезновения викторианского психиатрического приюта из культурной географии, непосредственно через снос или косвенно через определенный тип матирования, как описано выше, изображение психиатрической лечебницы в кино и СМИ становится основным средством распространения информации об опыте пребывания в ней. Этот процесс сам по себе порождает второе, усугубляющее искажение стратегического забвения и выборочного запоминания. Когда ее осязаемая доказательная база разрушена, культура отходит от фактов и движется в сторону фантазии, все больше поглощаясь ею. Так появляется шум, которому разрешено размножаться в расширяющемся проломе между репрезентацией/значением и реальностью. Отсюда не следует, что бывшие психиатрические лечебницы должны быть сохранены точно такими, какими они были в последний день своей работы; это лишь иллюстрация процесса, при котором история и пространство подвергаются существенным изменениям и искажениям со временем.
Я выбрал Elswick Lead Works как лучшее место для продолжения своей практики полевой звукозаписи, потому что чувствовал, что о здании стратегически забыли. Объект оцеплен, все следы производства давно стерлись, а назначение нескольких обветшалых зданий остается совершенно неочевидным. Как и многие бывшие промышленные объекты в регионе, он ничем не примечателен. В этой части страны, опустошенной упадком – вымиранием рабочего класса и соответствующим разрушением общественного здравоохранения, атрофией целых поколений семей, выброшенных на помойку, — такое разложение является характерным и часто оскорбительно подается в искусстве. Ситуация на заводе по производству свинца в Элсвике не нова; зданию просто дали разрушаться более интенсивно, чем другим местным объектам аналогичного происхождения.
В данном контексте городское исследование и полевая запись представляют вмешательство в навязанные механизмы стратегического забвения и выборочного запоминания. Акт записи сопротивляется социополитическому давлению по «забыванию» таких тенденций и настаивает на их доказательном документировании и проживании. Практика обеспечивает сохранение историй и травм, которые другие предпочитают подавлять. Кроме того, включая эти звуки в свои композиции, я стремлюсь наделить их новой эстетикой и новым выразительным потенциалом. Эта практика может быть применена в городском пространстве и за его пределами, как доступ к скрытым пластам прошлого, как возможность услышать их эманации, откуда бы они ни исходили. Таким образом, моя работа становится своего рода стратегическим запоминанием — это важный мотивационный фактор для меня. Эти неясные шаги приближают меня к мифогеографии Фила Смита — ответу или переосмыслению психогеографии, которая «подчеркивает множественную природу мест и предлагает множество способов прославления, проявления и переплетения этих мест и их разнообразных значений». В рамках данного определения мифогеография действует как позитивное средство исправления фрагментации пространства, вызванной стратегическим забвением.
Город как вместилище шума и ментальных расстройств
То, что я делал в Elswick Lead Works — это одна из моих задач в миниатюре; она заключается в иллюстрации городского пространства как фундаментального вместилища шума. Это относится как к политическим, так и к звуковым манифестациям шума. В процессе исследования я буду рассматривать аудиальный шум, субкультуры шумовой музыки; важно также подчеркнуть, что социоэкологические условия, связанные с этими политическими проявлениями шума, коррелируют как с моим личным опытом, так и со значительным разнообразием проблем психического здоровья, которые, можно сказать, симбиотичны городской среде. Мне кажется, что эти факторы оказывают существенное влияние на артистов, особенно на тех, кто работает в области шумовой музыки, в качестве мотивационной силы, поэтому я хочу исследовать их в первую очередь.
Подавляющее большинство произведений в данном исследовании имеют ярко выраженную полемическую составляющую. Политическое управление психическим здоровьем — это каталог эксплуатации, насилия и пренебрежения, что вызывает во мне ярость. Индустриальная музыка — прекрасная трибуна для конфронтации, излияния гнева, идеально подходящая для моей практики. Следовательно, отражение степени моего негодования помогает контекстуализировать последующий дискурс. Это также способствует укреплению связей между исследованиями в области социальной политики, данными общественного здравоохранения, а также литературно-художественными влияниями на указанную работу.
Это жалкое клише, что у лиц, находящихся в неблагоприятном положении в нашем обществе, есть магическая способность стать невидимыми, непредставленными, безголосыми; потеряться среди конкурентного шума привилегированных корпораций и предвзятых СМИ, которые, как считает Мари Томпсон, замешаны в «консервативной политике молчания». Это навязанная невидимость, вызванная сокращением услуг и пособий, а карательная идеология жесткой экономии вынуждает их к молчаливому согласию, делая их покорными существами. Они перемещаются между городами, в которых мы живем, городами, курируемыми политиками, газетами, рекламными щитами, вызывающими у нас непреодолимое желание приобрести тот или иной разрекламированный новый продукт, городами, скрытыми или искаженными коварным гипнотическим светом и успокаивающим звуковым барьером смартфона. Многие страдают на своих негостеприимных лиминальных путях, затонувших в пучине бюрократических полномочий перегруженных госслужб; люди, остающиеся незамеченными со стороны государства или получающие лишь мизерную долю медицинской помощи, чтобы поддерживать свое существование. В ограниченном пространстве города, недоступном для большинства, слышен призрачный голос Ника Клегга, который взывает к «паритету уважения» — правда, все тише и тише. Доклад «Right Treatment, Right Time» от Rethink Mental Illness за 2018 год демонстрирует, в какой степени эти пустые обещания отошли на второй план из-за переговоров по Брекситу; это еще одно обвинение в постыдном пренебрежении к помощи. Этот мир во многом определяется тем, что Марк Фишер называет «капиталистическим реализмом». Фишер выступает за политизацию психического здоровья, которое капиталистический реализм стремился приватизировать. «Чума психического здоровья» в капиталистических обществах показывает, что «капитализм не является единственной работающей социальной системой, он по своей сути дисфункционален, и его издержки слишком высоки»; позже Фишер уточнил, что «приватизация этих проблем – рассмотрение их под таким углом, будто бы они были вызваны только химическим дисбалансом в неврологии человека и/или его семейным бэкграундом – позволяет снять вопрос о социальной системной причинности». Поэтому реполитизация этого вопроса является главной предпосылкой к формированию обоснованного вызова для капиталистического реализма. Обсуждая роль, которую городское пространство может играть в развитии психических расстройств и болезней, я намерен внести свой вклад в такую реполитизацию.
Бесцеремонное отношение и идеологические мотивы различных правительств глубоко повлияли на то, как развивалась психологическая помощь «community care» за последние тридцать лет; Питер Бархэм заявляет, что: «Вся суть политики ‘Care in the Community’ была поставлена под сомнение, чтобы как-то сократить расходы. Темпы закрытия больниц для лечения психических расстройств – как сообщает Специальный парламентский комитет, — намного опережают темпы предоставления соответствующих услуг на местах. Здесь наблюдаются безошибочные признаки предпочтения идеологии над фактами, ранние «звоночки», сигнализирующие о политике постправды. Реальность деинституционализации всячески трансформировалась, наполнялась шумом на протяжении десятилетий, не в последнюю очередь из-за удобства, замаскированного под идеалистический оптимизм в отношении безоговорочного принятия и доброжелательности со стороны семей и более широкого сообщества. Это удобство отчетливо показана в утверждении Бархэма о том, что «появление ‘общественной помощи’ сигнализирует о зарождении политики, которая считает, что моральные и общественные аспекты психических страданий больше не должны быть в центре специализированного внимания или тщательно продуманного государственного обеспечения по уходу за людьми с ментальными расстройствами».
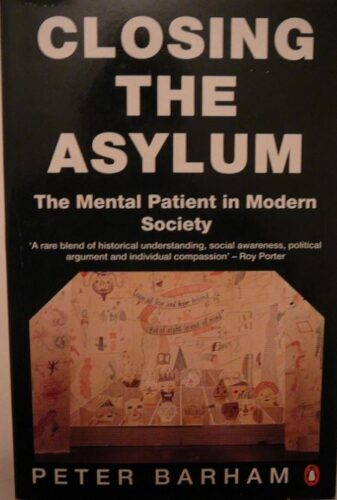
Изменения в политике и политическом отношении к медицинской помощи, заложившие основы для деинституционализации в конце 1950-х и начале 1960-х годов, связаны с двумя ключевыми факторами: сдвигом парадигмы в психофармакологии, который произвел революцию в экспертизе и роли специалистов, а также в развертывании помощи; и с современными тенденциями в городском планировании и городском развитии, которые коренным образом изменили пространство города. Современное городское пространство, сложно интегрированное с нефиксированной, детализированной топографией психиатрической помощи и социальной защиты, представляет собой наследие взаимного взаимодействия всех тенденций. В частности, хотя данные не подтверждают причинно-следственную связь между появлением психотропных препаратов и движением за деинституционализацию как таковым, бесспорно то, что поддерживающие, умиротворяющие свойства медикаментов радикально снизили потребность в централизованных местах ухода. Еще одним заметным наследием деинституционализации является широко распространенная проблема двойного диагноза; сочетание проблем психического здоровья со злоупотреблением психоактивными веществами и алкоголем, фундаментально дисфункциональное сочетание самолечения и социальной изоляции. Лоранс подтверждает, что «физическая потребность в больницах заменяется химической потребностью в лекарствах». Медикаменты, как основной инструмент помощи со стороны сообщества, представляют собой практическую терапию, которая позволяет пациенту жить обычной жизнью, ретушируя симптомы его заболеваний; но медикаменты можно рассматривать и как средство замалчивания, нейтрализации и выведения из строя; мы приносим в жертву индивидуальность ради того, чтобы обществу было комфортно. Кросс лаконично описывает community care как ‘поиск мест, куда их можно сбагрить, чтобы они нам не мешали’. Лоранс развивает эту мысль дальше (удобство ставится выше заботы): «Общественное попечение предполагает предоставление нового вида услуг, ориентированных на потребности людей с психическими проблемами. Однако критики утверждают, что оно просто экспортировало принудительный характер госпитальных услуг в общество. Принуждение может иметь тонкие формы».
Из-за обилия конкурирующих сигналов и шума, грандиозного разрастания и непроницаемости разной активности город пассивно способствует потере и социальной изоляции при содействии местных властей, которые и сами сгибаются под тяжестью неустойчивых мер жесткой экономии, последствия которых могут быть только негативными, бьющими по наиболее уязвимым слоям. Это и есть шум, возникающий из-за незакрытых потребностей, лишений и игнорирования. Это обман искренне нуждающихся с помощью политического манипулирования и преследования своих интересов; бесстыдное перебрасывание со стороны популярных СМИ всей ответственности на больных; унижения, которые мы допускаем, закрывая глаза на этот обман в результате своего эгоцентризма и замкнутости на своих жизнях. Бархэм отмечает: «Очевидно, что люди с хроническими психическими заболеваниями в обществе могут оказаться в такой же структурной изоляции, как и раньше в приютах, и, кроме того, их потребности в здравоохранении теперь могут игнорироваться. Теперь они не нужны ни как пациенты, ни как граждане». Существует интересное совпадение между этим описанием государственной власти, культивирующей социальную изоляцию, и упадком фланирования, предшественника современной психогеографии. Комментируя работу автора Ксавье де Местра, Каверли говорит о сдерживании фланирования в терминах, которые перекликаются с угрозой социальной изоляции, с обострением симптомов и незамеченным ухудшением психологического состояния бывших интернированных системы приютов. Каверли описывает добровольное заключение де Местра под домашний арест как плодородную, но разобщенную внутреннюю жизнь воображения: «Он сократил свое перемещение до обхода комнаты, принудительно заменив враждебную современному городу улицу креслом и тем самым переключив свое странствие внутрь себя».
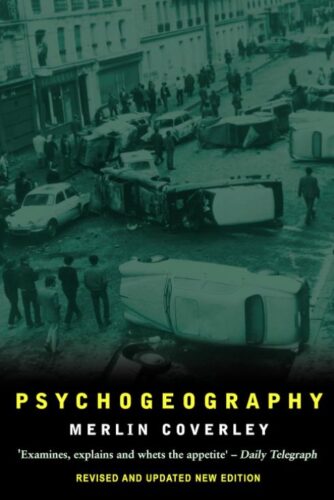
Конечно, я не закрываю глаза на потенциал, который предоставляет городское пространство как место значительных возможностей, динамичности, культурного разнообразия, саморазвития и подпитки. Подобные вещи прекрасно отвлекают — если вы можете получить к ним доступ. Эти поразительные, интенсивные полярности опыта создают призрачное богатство и изобилие притягательных или отпугивающих возможностей, конкурирующий шарм, позволяющий смягчить удушающую, загрязняющую тень самых устрашающих качеств города. Именно на этом беспокойном, тревожном фоне город следует рассматривать как дисфункциональное пространство; это не порицание, а просто наблюдение за системой организации человеческого общества и экономики, которая имеет серьезные проблематичные последствия для жителей. Для многих горожан, не имеющих ресурсов или возможности покинуть «горизонт событий», даже если они хотели бы, разговор о «городе» неразрывно связан с речью об «окружающей среде» или «мире». В этих обстоятельствах дисфункциональные аспекты города как среды для жизни, обучения и развития проявляются через ряд характеристик, которые можно считать убийственными примерами современной жизни в цивилизации, созданной для нас в последние два столетия в результате индустриальной революции, войн, политических конфликтов и неолиберальной экономики. Частота случаев психических заболеваний и их коморбидность в городах по сравнению с меньшими сообществами и сельскими населенными пунктами значительна, даже учитывая различие в плотности населения.
Город как живая среда, со своими условиями подавляющего психологического и внутреннего шума, может быть экономической и политической необходимостью, к которой человеческое существо эволюционно не приспособлено — это неоднородность, которая вызывает психологическую дисфункцию у его жителей. Город как модель мышления оказывает влияние и на другие виды пространства. Даже если нам и посчастливилось побывать в иной среде, доктрина городского существования шифрует наши отношения через психогеографическую светотень, сбивая нас с толку и подсовывая нам искаженные ожидания. Житель города не может не политизировать свое восприятие природы. Мы предвидим нереальные удобства и возможности; оставляя город, чтобы испытать другие пространства, мы неосознанно гонимся за тем, что Хегарти называет «той окультуренной формой природы, которая бесконечно забывает про свою окультуренность». Как бы быстро мы ни убегали в сельскую местность, дух города проникает туда первым, облачившись в свою собственную противоположность; накладывая абсурдные требования, которые природа не может выдержать. Как сказал Иэн Синклер, «Город: безумие, голоса. Страна: инкубация или отрицание визионерского опыта. Тишина».
Многие проблемы общественного здравоохранения и социальные проблемы, выявленные в сельской местности — отсутствие возможностей, экономический спад и яркое неравенство, антисоциальное поведение и злоупотребление психоактивными веществами — можно спекулятивно отнести к вампирическому постиндустриальному доминированию городского пространства. Из этого следует неохотный вывод, что город является – на данный момент – конечной точкой развития систем организации сообществ, дарованных нам промышленной революцией; это двойственный пик системы, которая существует там, где люди делят пространство и ресурсы для взаимной выгоды, нравится нам это или нет. Паутина городской жизни оплетает всю нашу культуру. Достаточно вспомнить так называемый «Вестминстерский пузырь», нравственно повинный в изоляции по привилегиям. Подобное политическое и социальное игнорирование характерно для значительной части правящего класса, не проявляющего эмпатии или понимания; политики сокращают бюджеты на медицинское обслуживание по всей стране, продавая «вкусные» доли Национальной службы здравоохранения с аукциона своим деловым партнерам. Культурное и политическое господство Лондона, его централизация по отношению к остальной части Великобритании, колеблющаяся недееспособность «Northern Powerhouse» — все это подливает масла в огонь. Города — это связующие звенья нации, места, куда чаще всего бьют молнии процветания и привилегий, где мультикультура самая плотная, разнообразная и переплетенная. Эта модель неразделима с нашей социализацией, определяет наше мышление, коммуникацию, реакцию и действия. Таким образом, можно утверждать, что городское влияние определяет социализацию и поведение людей в постиндустриальную эпоху.
Отсюда следует, что существуют жуткие корреляции и совпадения между условиями городской жизни и разнообразием диагностических симптомов различных психических расстройств, а также сопутствующих заболеваний, таких как нарушение сна, плохое внимание, неправильное питание, стресс, утомляемость, социальная тревожность и т. д. Сложные связи между городским пространством, психическими заболеваниями и болезнями, вызываемыми окружающей средой, являются давней областью исследований. Эти опасения были предметом пристального внимания психологического сообщества еще до начала двадцатого века, что подробно документировано и проанализировано в «Искаженном пространстве» Видлера.
Особый интерес представляло пространство нового города, которое теперь подвергалось тщательному изучению как возможная причина более частого психологического отчуждения – Венский кружок называл это «дереализацией» – индивида в мегаполисе […] Перенос индивидуальных психологических расстройств на социальные условия целого мегаполиса, возможно, был не более чем метафорической гиперболой. Однако, с другой стороны, «открытие» этих новых фобий, похоже, было частью более широкого процесса переразметки пространства города в соответствии с его меняющимися социальными и политическими характеристиками.
И все же, эта установившаяся концепция дискурса в конце XIX века и ранее не оказала заметного влияния на гражданское планирование или политику; болезни и недееспособность просто претерпевают различные изменения по мере того, как городская среда накапливает новые ошибки, вызванные устойчивым предоставлением преимуществ экономике и предпринимательству перед общественным здравоохранением. Неуместная оптимистичность планировщиков 1960-х годов и их видение аскетически очищенной бетонной утопии были изначально несбыточны и нерелевантны. Даже беглое рассмотрение социальных вопросов городской жизни позволяет выявить множество сопутствующих заболеваний, связанных с психическими отклонениями.
Индексы Multiple Deprivation 2015 содержат подробную информацию о десяти процентах наиболее лишенных сообществ в Великобритании, большинство из которых расположены в городах. Исследование Multiple Deprivation охватывает разнообразные недостатки и незакрытые потребности, начиная от нищеты и продовольственной бедности и заканчивая социальной изоляцией; гордиев узел неравенств в здравоохранении, к которым пациент, находящийся на пути выздоровления, может быть особенно уязвим, ведь он является идеологическим антагонистом для государства. Бархэм, говоря о пациентах, возвращающихся в общество после длительного пребывания в психиатрической клинике, в некоторых случаях под значительным давлением, отмечает следующее: «Освобождение от стигматизирующего дискурса психиатрии может не повлечь за собой ничего кроме свободы оказаться в стигматизирующем дискурсе бедности».
Лирическое отступление
Возмущение, как учат нас социальные медиа, — это подарок на всю жизнь. На этой стадии моей диссертации я считаю целесообразным начать интеграцию более литературных источников в полемическое содержание. Это поможет показать, что политически противоречивая суть исследования может быть обогащена эстетической и креативной сочностью, не теряя при этом его интенсивности и целостности. В данной точке я хочу вновь ввести идеи Юнга как средство объединения этих элементов. Следующий анализ городского пространства через призму разных авторов и практиков будет ретроспективно пронизан алхимическим словарем Юнга, так как именно его изыскания предвосхитили понимание патогенного потенциала городов. Юнг использовал оккультную терминологию и образы алхимии как необычное иллюстрирование процесса самореализации. Такое использование алхимии в качестве психологической аналогии также полезно для объяснения процесса выздоровления и смягчения последствий психических расстройств. Эта аналогия, пришедшая мне на ум в связи с центральной ролью свинца в Elswick Lead Works, привлекла меня к работам Юнга. Неудивительно, что именно в «Психологии и алхимии» Юнг изложил свое применение символического языка алхимии для иллюстрации психологических процессов, с латинской терминологией и всем остальным. Среди заимствованных им концепций в тексте широко используются следующие. Их уместность в этом контексте со временем станет яснее.
Lapis Philosophorum
Юнг сравнил достижение индивидуации с превращением свинца или других основных материалов в lapis philosophorum, или философский камень, легендарную панацею и символ просветления. Индивидуация, по Юнгу, является Святым Граалем психологических трансформаций; гипотетическая чистота. Достичь истинной индивидуальности — значит достичь истинного единства себя.
Vas Mirabile
Vas mirabile — это сосуд, в котором алхимик смешивает основные материалы, такие как свинец, также известный как prima materia. Это тигель, в котором происходит алхимический процесс. Vas mirabile представляет собой юнговскую модель дискретной, автономной психики, состоящей из многочисленных компонентов и слоев.
Coniunctio Oppositorum
Coniunctio или «союз противоположностей» — это активный процесс, посредством которого prima materia преобразуется в lapis philosophorum. Это преобразующее примирение, посредством которого разрозненные части психики объединяются и очищаются (фактически, улучшаются и выздоравливают).
Massa Confusa
Massa confusa — это первичный хаос мира, против которого выступает алхимик. По сути, это означает психологический разлад и фундаментальную разобщенность, а также условия существования, способствующие этой дисгармонии.
Эти предпосылки задали контекст для альбома Cauldhame «Saturnine», который основан на полевых записях, собранных на площадке Elswick Lead Works. The Lead Works — это конфликтное пространство, политически неоднозначное, табуированное, трансгрессивное и преступное. Это узел шума, брешь, и, пересекая его порог, мы нарушаем порядок. В отсутствие политических или функциональных привязок это пространство опасностей, непредсказуемых потенциалов и скрытых энергий. Озвучить это пространство — значит порвать мембрану города, создать точку соединения, из которой можно будет узнать все остальное. Опираясь на магические прочтения топографии и местности Иэна Синклера, я выделяю символ Свинца как тематическую корневую структуру, суть последующей практики.
Алхимическое искусство
Свинец — яд; нейротоксин, который, если он однажды попал в организм, накапливается в теле и костях. Краска для интерьерных работ на основе свинца, широко использовавшаяся в позднюю викторианскую эпоху, была известна тем, что чрезмерно обсыпалась, выделяла частицы и попадала в дыхательные пути; предвестник отравления свинцом в детстве. Согласно Оксфордскому словарю английского языка, «saturnine» означает вялость, безучастность, угрюмость. Этот термин стал ассоциироваться с диагностическими критериями отравления свинцом. Святая Сатурнина — цефалофор; святой, обезглавленный в момент мученической кончины и теперь несущий в руках отрубленную голову. Свинец в течение многих лет был ключевым компонентом автомобильного топлива, аэрозольным загрязнителем, который душил города, портил кровь их жителей, отравлял легкие и проникал в разум; изнуряющий колпак выхлопных газов, под которым ревела монолитная промышленность, подчиняя себе все живое. Длительное или постоянное загрязнение воздуха, воды, почвы и продуктов питания является причиной возникновения многочисленных психологических заболеваний и состояний; персонаж Марко Поло в «Невидимых городах» Кальвино прекрасно описывает этот кошмар.
Когда же облачко дыма, который они выдыхали, зависало, оставаясь плотным и почти неподвижным, оно вызывало другие образы, например, смога, висящего над крышами домов метрополий и плотной удушливой массой окутывающего просмоленные улицы. И это не легкая дымка памяти и не прозрачная сухость, а образовавшаяся над городом копоть сгоревших жизней, разбухшая губка, впитавшая в себя живую материю и лишившая ее движения, засорение прошлого, настоящего и будущего, которое в иллюзии движения не дает выхода обгоревшему существованию: то, что ты понимаешь под путешествием.
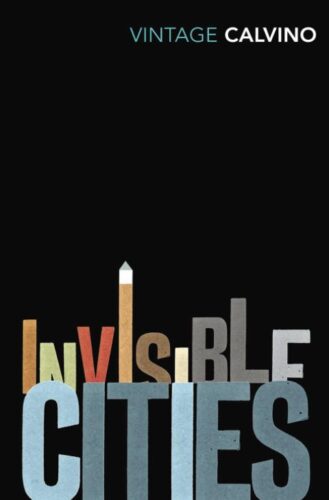
Но все же Свинец алхимичен; на это указывает потенциал его трансформации. Его обманчивая максима «Свинец в золото» предполагает чудесное превращение болезни в здоровье через стадии реабилитации. Бывшие пациенты психиатрических приютов, оказавшиеся выброшенными, загнанными в тупик в результате деинституционализации, перемещаются в задымленные закоулки города, где им предстоит превратиться в образцовых граждан благодаря труду и доброжелательности своих соседей. Пластичность города, как описывает Джонатан Рабан, является показательным подтверждением этой трансмутативности, как самого пространства, так и его бесчисленных посредников. Поддаться принудительной алхимии города — значит вдохнуть его, согласиться на собственное слияние с ним, процедить его частицы через кровь в мозг, орошая мысль. Среди этого избытка выхлопных газов и едких запахов города — наш жест капитуляции перед его разрывом, грануляцией, смешением времени и физического пространства. Мы вдыхаем городское «вчера» и выдыхаем его в городское «завтра».
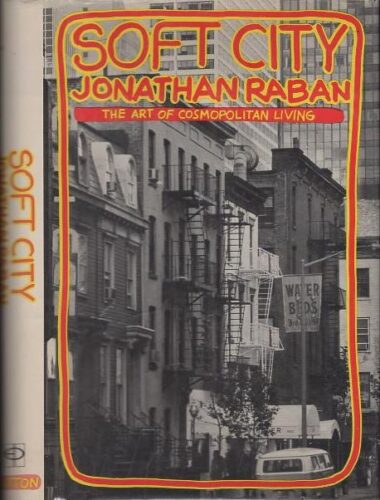
Через эту призму процесс психологического исцеления выглядит как постепенное укоренение отдельных фрагментов социальных норм, кропотливо собранных воедино и преобразованных в социально приемлемый симулякр здоровья. Социолог Эрвинг Гоффман описывает это как «passing» (перетекание из одного состояния в другое): способность имитировать нормальность перед лицом потенциальной стигматизации посредством усвоенного процесса «управления впечатлением». Плодами труда в нормальном состоянии являются продуктивные и эффективные отношения с возможностями города; это действие неотделимо от участия в его распространении. Фуко описывает идеальный продукт этого труда в норме как «совершенного иностранца»:
он остается “иностранцем”, Чужим в высшей степени, о котором судят не только по внешности, но и по тому, что в этой внешности невольно проявляется и выдает себя. Безумец призван постоянно играть пустую, лишенную содержания роль — роль незнакомого гостя, отрицающую все, что может быть известно о нем заранее, выводящую его на поверхность самого себя, превращающую его в социального персонажа, чья форма и маска навязываются ему молча, одним только взглядом; тем самым он призван объективироваться в глазах разума в качестве совершенного иностранца — т. е. такого иностранца, чья инаковость совершенно незаметна. Лишь в этом качестве, ценой полного своего соответствия образу анонима, он получает доступ в чертоги разума.
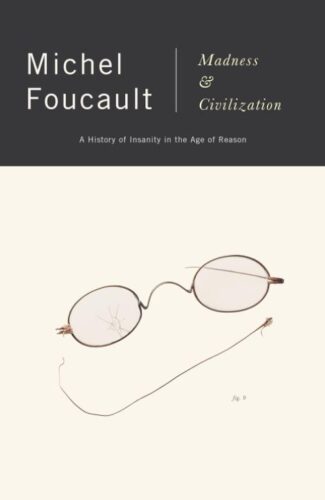
Эти различные варианты трансмутации, вне зависимости от того, ощущаются ли они как реальные изменения или являются притворной тактикой выживания, хорошо выражены в модели алхимии Юнга. В алхимическом ритуале, в его объединении противоположностей, внутреннего и внешнего, сознательного и подсознательного, духа и плоти, Юнг видел феномен индивидуации, в котором каждая магическая стадия являлась символическим представлением психологического процесса, ведущего к исцелению и самоактуализации. Относительно изолированная от его более доступных размышлений, возможно, из-за утонченности темы, работа Юнга с символизмом и историей алхимии описывается Хопке как его «эзотерика». Хотя Юнг квалифицировал свое использование образов и терминологии как «исключительно феноменологическую» точку зрения, «Психология и алхимия» ясно демонстрирует его склонность к герметизму, иконографии и иммерсивному ритуализму. Алхимия как парадигма привлекла Юнга тем, что Салман называет «синтетическим пониманием материи и психики». Это холистическое прочтение разума и тела, описанное в алхимических терминах как coniunctio, или «единство противоположностей», отражает подлинно аффективную совокупность психологического опыта, возможно, опередившую свое время. Внедрив в психоаналитическое моделирование заклинательный язык и глифические аллюзии, Юнг предвосхитил работы Иэна Синклера и Джонатана Рабана; те использовали разноплановые, сверхъестественные образы в качестве аттракторов вовлеченности, через которые осуществлялось косвенное раскрытие и понимание других прозаических событий. Такой широкий спектр мысли, возможно, стал ответом на сумбур современников и скептицизм врачей, отвернувшихся от трудов вследствие их умышленно обскурантистского тона.
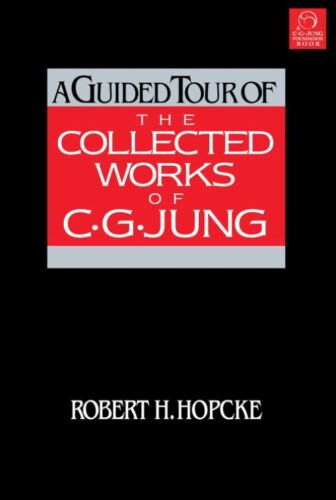
В алхимической модели Юнга сырая материя психики, конгломерат памяти, опыта и аффектов, именуется prima materia; «свинец» или другие базовые материалы, которые трансформируются в алхимическом процессе, называемом психоанализом. Необработанная психика – это потенциал, наполненный хаосом, massa confusa, лихорадочным диссонансом и шумом своего неумиротворенного состояния. В этом смысле мы можем предполагать ощущение неизлеченного психического нездоровья, неприспособленное тело, болезненно реагирующее на чужеродное пространство. В алхимическом процессе prima materia содержится внутри vas mirabile, или герметичного сосуда; это можно понимать как разреженную атмосферу, например, в условиях психотерапевтического лечения, или просто как четко определенное пространство или ситуацию. Содержащаяся таким образом prima materia подвергается плавлению; изменению, воздействию или трансформационным стадиям, которые входят в терапевтический или ассимиляционный процесс. Целью этого процесса является производство lapis philosophorum, или «философского камня»; в этой обстановке необходима самореализация и индивидуация; выздоровление. Юнг описывал этот момент «сознательный союз эго со всем, что было спроецировано в ваше ‘Я’».

В процессе алхимии Юнга используется модель, описанная еще Гераклитом; есть четыре стадии алхимического процесса, каждая из которых соответствует определенной окраске: melanosis (почернение), leucosis (побеление), xanthosis (пожелтение) и iosis (покраснение). Хотя Юнг и отмечал, что в более поздних итерациях алхимического процесса упоминается меньше стадий, причем для каждой стадии отдается предпочтение латинской терминологии, я придерживался греческой модели для своего альбома «Saturnine». Такой преференциальный подход подчеркивает утверждение Хопке о том, что «алхимия была максимально индивидуалистической инициативой, наполненной идиосинкразическими терминами и образами, которые варьировались от алхимика к алхимику, и каждый термин имел свои собственные бесчисленные смыслы: от буквального до переносного, от духовного до философского, мистического».
Melanosis — это почернение, гниение. Термин описывает неизбежный процесс абсолютного упадка и отчаяния, признания хаоса, который содержится внутри человека, что предшествует возможности трансформации. В психологическом контексте melanosis может означать тот поворотный момент, который окончательно констатирует необходимость лечения и запускает активный поиск помощи. Leucosis, второй этап, характеризуется побелением; это смывание грязи. В этом процессе психика расщепляется и очищается; удаляются дисфункциональные знания и концептуализации, чтобы создать необходимые условия для исцеления и ассимиляции, момента coniunctio, который обновит холистическую целостность психики. Третий этап, Xanthosis, пожелтение, описывает этот преобразующий момент, слияние противоположностей. Как и предполагает колоризация, в этом случае свинец становится золотом, воссоединенная самость становится герметичным целым, очищенным от дисфункций. Важное уточнение, которое следует сделать: здесь описан именно переход к финальной стадии, iosis, покраснению, но не сама финальная стадия. Финал – это пробуждение. Iosis – покраснение «в результате повышения жара огня до максимальной интенсивности». Это и есть достижение неоспоримой самости, исцеления, полного единения со своими состояниями. Абсолютизм и идеализм этой финальной стадии – ее ключевые особенности. Ее субъективная достижимость вызывает сомнения. Именно этот завершающий аккорд отражает процесс персональной и функциональной интеграции в городское пространство как среду обитания, стремление к идеальному психическому здоровью, подлинной гармонии и истинному безусловному принятию наших личных обстоятельств.
Применительно к творческому акту это рассуждение может звучать следующим образом: использование полевых записей, собранных с Lead Works, в качестве основы, наделенной богатой глифической символикой; с применением таких методов организации звучания, которые остро реагируют на пролом и грануляцию времени и пространства в городской среде; как средство исследования степени молчаливого согласия и сопротивления человека городскому окультуриванию, что само по себе является алхимическим актом творческой практики. Этот алхимический акт описывает постепенное привыкание к токсичности городской атмосферы, ассимиляцию с ней; гнозис цвета сажи. Передавая эту тему с помощью модальности, основанной на шумовой составляющей, я творчески подпитываю то качество сопротивления, которое характеризует нойз-музыку и ее исполнителей; мое возмущение от однообразного труда, к которому часто сводится городское существование, от вторжения в личную жизнь и пространство, от общественного давления, поиска компромиссов бытия, горьких плодов лишений и нужды, от всех дисфункциональных стратегий свыкания с современной жизнью. Иронично, что такое возмущение представляет собой и поддержку той культуры, против которой я выступаю, ведь эта культура позволяет мне создавать подобную музыку. Шум, который я записываю, мой нигилистический порыв, воплощает в себе диссонанс, противоречия и различные столкновения мыслей. Именно этот непримиримый поток тревожных импульсов, лихорадочных фрагментов артикуляции и ауральных симулякров когнитивного хаоса, возникающий в поисках осмысленного выражения и передачи, лежит в основе остальных альбомов в данном исследовании.
Городские оракулы
Многие писатели отмечали психоделическую нестабильность городского пространства, оставив свой неизгладимый эстетический отпечаток на этом дискурсе; их интуитивные сигнатуры расчертили пересекающиеся желобки для направления моих мыслей. Среди этих писателей — Иэн Синклер, Джонатан Рабан, Чайна Мьевиль, Итало Кальвино, Энтони Видлер и другие; мыслители из чрезвычайно разнообразных миров, которые, тем не менее, создали уникальные условия для юнгианского поворота, куда затем и сместился дискурс. Их работы помогли сформировать мое понимание влияния городского пространства на психическое здоровье, а также дали значительные эстетические и лингвистические подсказки для лирической составляющей моих композиций, что необходимо учитывать.
Все эти писатели сильно пересекаются с психогеографией, в частности с исследованием отношений между психологией и городским пространством. Хорошо известно, что как концепция психогеография связана преимущественно с Ситуационистским интернационалом, по крайней мере, из-за ее идентификации в виде отдельной практики, если не ее применения. При таком происхождении ее нельзя с уверенностью называть дисциплиной. В своем одноименном вступительном тексте «Психогеография» Мерлин Каверли красноречиво приводит доводы в пользу более длинной родословной – более творческой и литературной, – которую Дебор и прочие отказались признать, и которая находит свое современное воплощение у таких авторов, как Иэн Синклер. Каверли излагает свой аргумент, цитируя, в частности, французского психогеографа Мишеля де Серто:
«[Де Серто] подчеркивает ограниченность всех систематических теоретических систем, включая психогеографию, в плане точного определения отношений между городом и человеком. Эти барьеры пронизывают город, разделяя сообщества с помощью искусственной категоризации и разрушая то, что является непрерывным нарративом, историей, в которой участвуют миллионы людей и чей сюжет неизвестен. В этом смысле объективный и программный подход социологов и географов грозит стушевать то, что они стремятся сохранить, делая их менее способными точно оценивать городскую жизнь, чем предшествовавшие им историки и романисты […]»
Именно это более современное, мистическое воплощение психогеографии занимает здесь главенствующее положение (и из которого этот текст черпает свое направление), несмотря на преобладание подхода ситуационистов. Наиболее ярким представителем этой модели психогеографии является Иэн Синклер. Его уникальная, пропитанная образами проза, особенно такие произведения, как «London Orbital» (прогулки по кольцевой автостраде М25 с изучением географии в пределах слышимости) и «Lights Out For The Territory», убедительна и полна своеобразных идей. Эти задокументированные прогулки по столице Великобритании интуитивно понятны и причудливы; они содержат то язвительные, то остроумные и абсурдные замечания. Даже Ги Дебор демонстрирует осведомленность о подобных эзотерических картах городского пространства (если не симпатизирует им). Он подразумевает возникновение алхимических процессов, когда утверждает следующее:
«Внезапное изменение обстановки на улице на расстоянии нескольких метров; очевидное разделение города на зоны отчетливых психических атмосфер; путь наименьшего сопротивления, которым автоматически следуют в бесцельных прогулках (и который не имеет никакого отношения к физическому контуру местности); притягательный или отталкивающий характер тех или иных мест – всем этим, кажется, пренебрегают. […] Разнообразие возможных комбинаций атмосферы, по аналогии со смешиванием чистых химикатов в бесконечном количестве смесей, порождает чувства, столь же дифференцированные и сложные, какие может вызвать любая другая форма зрелищ».
Психогеографическое картографирование городского пространства, которое я собираюсь создать, зиждется на психическом здоровье. Через эту призму, какую бы сторону деинституционализации ни рассматривать, города являются центрами помощи и изоляции; эти две концепции здесь наиболее ощутимы. Знания и возможности максимально широки, публика менее активная, а общество довольно сложное. Городское пространство также можно рассматривать как неизбежно раздробленную, фрагментированную среду, предел психического истирания, путаницу лабиринтов и лиминальных пространств, в которых можно потеряться. Это опасный потенциал городского пространства, с пугающей яркостью описанный Рабаном и Синклэром, если назвать лишь двоих.
Подобный дискурс, обогащенный психогеографией – в частности, головокружительной эзотерической прозой Иэна Синклера, — представляет город в виде воспаленного спутанного узла, в котором смешиваются спасение, проклятие и чистилище для всех его жителей; эдакий Перихорисис, говоря богословскими терминами. Perichoresis – греческая форма термина «взаимопроникновение». Оксфордский словарь английского языка определяет его следующим образом: «Взаимосвязь или взаимопроникновение Лиц Троицы; способ, которым три Лица считаются соединенными или взаимосвязанными без потери индивидуальности каждого из них». Я уже внедрял образ Перихорисиса в свои ранние работы (об этом позже); он применим и здесь. Этот термин хорошо отражает концепцию пластикового города Джонатана Рабана, а также образ донкихотского герметизма Синклера. Оба этих автора, намеренно или нет, поддерживают веру Юнга в «трансцендентную функцию символов» как средства порождения прозрения. Подобные грандиозные высказывания подчеркивают интенсивность подхода Синклера; он далек от сравнительно мягкой модели фланирования, джентльменских прогулок по Парижу в конце XIX века, которые являются прообразом психогеографии как феномена. Я подчеркиваю эти качества, ибо опьяняющий купаж прозы Синклера оказал ключевое влияние и на это исследование, и на лирику моих композиций. Мерлин Каверли аккуратно уловил харизматичность прозы Синклера, утверждая: «Синклер не фланер, поскольку он отследил необходимую трансформацию, которую претерпела эта фигура, чтобы противостоять вызовам современного города». Выразительный размах произведений Синклера, их насыщенность образами и зачастую лихорадочная плотность свободных ассоциаций напрямую определяют последующий дискурс.
Вернемся к пролому
Удивительный роман-антиутопия Чайны Мьевиля «Город и город» более скуден в своих образах, нежели произведения Синклера, но не менее проницателен и политизирован. В романе показаны два города, Бешель и Уль-Кома, которые расположены на одной и той же территории. Разбиение и разграничение пространства двух конкурирующих городов происходит на самом скрупулезном уровне: улицы, здания, земли и даже отдельные участки мостовой педантично прописаны за одним из «городов». Также имеются участки, одновременно принадлежащие двум сторонам, но только на физическом уровне (не на политическом). В алхимических терминах общее физическое пространство и границы каждого города можно описать как vas mirabile, т.е. вмещающий сосуд; основная материя prima materia (в данном случае население) сильно переплетена, но дискретна, нацелена на достижение единства и сингулярности, или coniunctio, но заперта во взаимной политической антипатии к такому потенциалу. Юридическое обязательство граждан каждого государства – воспринимать только свой собственный город и тренировать свое внимание так, чтобы не замечать другой; если уж случайное восприятие случилось, необходимо тщательно это «развидеть». Мьевиль на шесть лет раньше работ Муна, Кирнса и Джозефа выдвинул концепции стратегического забывания и избирательного запоминания, только на уровне государственного аппарата. Подобные обязательства строго соблюдаются на каждой территории; преступление «пролома», как называется в книге нарушение территориальных границ, считается властями худшим прегрешением, страшнее убийства.
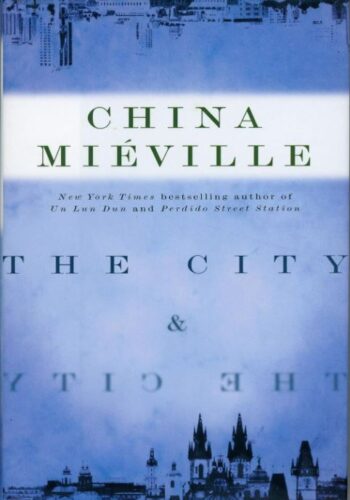
Зловещая тайная полиция под названием «Пролом» осуществляет это принуждение, действуя из скрытых пространств между двумя городами; ее существование является вопросом городской мифологии для населения в целом. «Пролом вмешивается. [..] Верь в Пролом, учили нас, не-смотри и не упоминай про работающих улькомских карманников или грабителей, даже если ты их заметил, находясь в Бешеле, потому что пролом более тяжелый проступок, чем их преступления». Меня до глубины души поразил образ единого городского пространства, глубоко разрушенного в сознании его жителей при потворстве государства. Я считаю, что эта идея имеет фундаментальное значение для картографирования психического здоровья, обеспечения помощи на реальных географических территориях. Мы видим интуитивный образ разрушенного общества, который резонирует с нойзом и индустриальной музыкой. Системы и арсенал «Пролома» перекликаются с реально существующими сообществами и документами Community Mental Health Team, Crisis Team, Assertive Outreach, Community Treatment Orders и т.д. Все это лишь стражи нормальности, а не попечители, осуществляющие уход.
Однако, хотя «Пролом» в книге, как кажется, обладает пугающе неограниченными ресурсами, современная инфраструктура community care все сильнее страдает от ограничений по мощностям, экономике, ресурсам и эффективности. В итоге проблемы психического здоровья остаются наиболее распространенными в самых обездоленных слоях общества; моральное уродство. Как отмечает Бархэм: «Требования к услугам по общественной охране психического здоровья таковы, что они очень часто имеют тенденцию быть реактивными, а не проактивными, на профилактические работы просто нет времени. […] Обслуживание, очевидно, свелось к кризисной работе с самыми опасными и тяжелыми больными, и даже здесь мы ничего толком не добились. […] Сбой в предоставлении медицинской помощи по месту жительства происходит не только из-за неадекватности имеющихся систем поддержки в обществе, но также из-за истощения стационарных услуг неотложной помощи».
Городские легенды Бешеля и Уль-Комы также содержат слухи о мифическом третьем городе под названием Орсини, где, возможно, и находится «Пролом»; или это отдельная уникальная, тайная территория; город, состоящий исключительно из пограничных пространств, которые являются маргинальными, политически конфликтными, невостребованными, неправильно приписываемыми или функционально обманчивыми. Изолированный двор, лазы между постройками, заброшенный дом; такие очаги политически неоднородного пространства, невостребованные, отчужденные жителями обоих городов, они пропитаны неповторимым ужасом вакуума и опустошения. Иэн Синклер мог бы охарактеризовать Орсини как «[…] фронтиры, зоны, которые незаметно нависают над другими участками».
На протяжении всего романа потенциальное существование Орсини сохраняет оттенок напряжения, проистекающего из этой двусмысленности. Подобная атмосфера характерна и для такого неоднозначного пространства, как Elswick Lead Works; дрожь от проникновения, чувство политического дискомфорта, отсутствие личной безопасности. Здесь нет государственного наблюдения и контроля. Ворваться в это пространство — значит поразиться внезапному отсутствию социально-нормативного руководства, удобно разлинованных ролей и взаимодействий. Записать свой физический опыт и реакцию на такие пространства, кинестетически вовлекаясь в окружающую среду и фиксируя это взаимодействие в формате аудио, — значит создать уникальное эмпирическое звучание, которое фундаментально обогащает все творческие работы, основанные на подобном исходном материале. Это фундамент, способствующий дальнейшему развитию взглядов, идей и мыслей. В этом, пожалуй, и заключается суть творческого порыва полевой записи. Как отмечал Синклер, «постепенно ландшафт вызывает доверие».
Книга «Город и город» иллюстрирует абсурдный вывод, к которому мы приходим, когда концепция политически фиксируемого пространства доводится до своего логического предела. Роман является яркой иллюстрацией того, что общество, а также занимаемое и формируемое им пространство, глубоко восприимчивы к психологическим и политическим влияниям, до такой степени, что физическое восприятие пространства безвозвратно искажается из-за соглашательства жителей с этим. Хорошо задокументированные левые взгляды Мьевиля различимы повсюду и в своей моральной значимости приятно напоминают Оруэлла. В своей рецензии для «The Spectator» журналист Эндрю Маккай описал ключевую идею романа так: «Все горожане сговорились игнорировать реальные аспекты городов, в которых они живут — бездомных, политические структуры, коммерческий мир и все такое, что обычно важно ‘для туристов’ […]». Этот момент прекрасно иллюстрирует социально-психологические обязательства и компромиссы, на которые должны пойти все горожане, чтобы функционально и эффективно согласовывать пространство, в котором они живут; уступки, сделанные для того, чтобы сделать повседневную жизнь понятной и терпимой.
В развязке «Города и города» антагонист романа пытается покинуть географическое пространство двух городов, проходя только через их общие зоны, что делает его местоположение на обеих территориях двусмысленным и тем самым сбивает с толку его преследователей. Поскольку население в целом политически недееспособно из-за своей перцепционной самоцензуры и шума по поводу спорной территориальности, это делает антагониста практически незаметным на самом виду. «Насколько опытным гражданином, искусным жителем и наблюдателем нужно быть, чтобы выявить для себя миллион скрытых манер нашего гражданского существования и не принять ни одну из этих моделей поведения». Такая социальная невидимость, полностью порожденная социально-политической размерностью окружающей среды, напоминает как осознанное исключение психогеографов, так и навязанное исключение, переживаемое Другими у Мьевиля. Чайна мог бы охарактеризовать настоящего фланера так: «[Его походка] была неустойчивой и несвязной […] он не дрейфовал, а скорее шел с патологической нейтральностью. […]»
В этом состоит элегантная, захватывающая кульминация нарратива, одновременно простого по замыслу и поразительно сложного по исполнению; мы видим, что город способен политически «закрашивать» своих наиболее обездоленных жителей. По мере того, как движение за деинституционализацию набирало обороты, а пациенты психиатрических приютов рассеивались по сообществам для оказания помощи, многие из них стали обездоленными, бездомными, что стало побочным явлением переходного периода. Бедность была и остается широко распространенной среди уязвимых слоев населения. В 1970-е годы Рабан мрачно предвещал эти последствия, когда писал: «Одна из самых мрачных свобод города — это то, что он дает человеку возможность едва выживать […]; люди, которые превратились в рудиментарные обломки личности, словно второстепенные персонажи романа. Для них изоляция стала самой отличительной чертой, и они одержимы ею так же всецело, как наркоманы. Скрытая неоднородность, пустота и злополучный солипсизм города поглотили их».
Реформа психиатрической помощи, завершающая процесс деинституционализации – закрытия системы приютов и запуска политически окрашенного перехода к помощи в сообществе – является ключевым изменением в природе городского пространства. Атомизированное, пересекающееся пространство «Города и Города» — это карта того, как места оказания психиатрической помощи и ухода рассредоточились по городу; места помощи теперь так же фрагментированы, вездесущи и привязаны к общественному пространству, как города-побратимы Мьевиля — Бешель и Уль-Кома. Социальная инфраструктура – больницы, госпитали, учреждения, общественные места – становятся теми пересеченными, взаимно занятыми пространствами, где признание «Другого» по-прежнему не поощряется или тщательно скрывается от внимания с помощью укоренившихся механизмов игнорирования. Уход, помощь, опыт, вмешательство, ответственность, виновность, пренебрежение, жестокое обращение; каждый из этих субъектов феноменологически преобразуется в процессе деинституционализации. Проект деинституционализации представляет собой модель алхимического процесса; неразрывно смешивая больных и здоровых в vas mirabile городского пространства, государство пыталось достичь социального coniunctio, которое объединило бы две стороны в единое, функциональное, взаимовыгодное и продуктивное городское население. Государство, возможно, недооценило турбулентность и летучесть той massa confusa, которую они брали за основу для этого процесса.
В этой модели, повторяющей картографию романа Мьевиля, аппарат социального контроля и подавления инакомыслия, известный как «Пролом», может быть воплощен в средствах массовой информации, в их механизмах культурной прививки; в равной степени это может относиться к остаткам старых, более жестких методов изоляции, а также к перегруженным госпиталям и учреждениям ухода в настоящее время. Если взглянуть на современное городское пространство через призму «Города и Города», то можно увидеть материю, безжалостно разрываемую шумом трансгрессии, дисфункциональными разграничениями и борьбой людей, конкурирующих за дискретные свободы и возможности индивидуальной трансформации города, в котором они живут. И это пространство само по себе приобретает дополнительное сверточное измерение психического здоровья и бесчисленных вариаций его расстройств из-за взаимопроникновения помощи и пространства, а также дезинтеграции границ между общественным и частным, созданных деинституционализацией. Именно это компактное спорное пространство я пытаюсь исследовать с помощью творческой практики, используя обработанные полевые записи, чтобы пробить брешь в городе, открыть его с помощью звуковой монтировки, созданной из него самого. Звуковое присвоение в ситуационистском смысле; в котором информация и материалы перераспределяются и реконтекстуализируются, отрываются от своего первоначального значения, создавая «новые и неожиданные значения путем захвата и разрушения оригинала».
В этом смысле, возможно, именно артист воплощает потенциал нарушителя; любопытный, вопрошающий, параноидальный житель, который перемещается по соседним городам со своими собственными планами, непредсказуемыми и не имеющими ответа, плюющими на культурные и политические авторитеты. Неоднозначная фигура, располагающаяся лишь собственной этикой, которая может быть загадкой даже для его самого, подчиненная первичности творчества. В этом контексте результирующая практика представляет собой выборочное запоминание, вырезанный документ о перекрытии территории между общим городским пространством и лично определенным городом, созданный на основе опыта практикующего, посредством которого скрытые истории и подавленные травмы могут быть вновь проявлены и пережиты. Каверли описывает фланирование в контексте произведения По «Человек толпы» (вторя Вальтеру Беньямину) следующим образом: «[…] странник в современном городе, одновременно погруженный в толпу, но изолированный от нее, аутсайдер (даже преступник), но все же в конечном итоге человек, которого невозможно понять и чьи мотивы остаются неясными»; потом следует зловещее уточнение, что «в современном городе человек толпы должен адаптироваться или погибнуть». Это описание сильно напоминает стиль Иэна Синклера, который насыщает неустойчивую роль фланёра эзотерической силой и накипевшим политическим противостоянием. Практик не находится явно ни в одном звене этого конфликтного городского пейзажа; он или она перебирает все в поисках материала, выуживая его подобно бродяге, основываясь на своих этических установках, целеустремленности и необходимости реагировать на свой мир.
Мягкие города и суровая реальность
Город слишком обширен и неповоротлив, чтобы полностью познать его; его вариации бесконечны. При взаимодействии с огромной и детализированной структурой, глубина сложности которой превышает индивидуальное понимание, каждый житель города создает свой собственный управляемый город в контексте целого, состоящий из элементарных компонентов, возможностей и опыта, известных или навязанных ему. Этот индивидуально определенный метагород пластичен, постоянно меняется и уникален для человека, который его придумал. Когда я говорю о том, что использую свои практики записи полевых звуков и индастриал-музыки как средство для изучения и допроса городской среды, я должен признать, что фактически я разговариваю с собой, пространством и порогом моего собственного кругозора.
Когда наши личные мета-города конфликтуют друг с другом, наши навязчивые переживания разрываются и вступают в противоречие со схемами, которые мы тщательно выстраивали вокруг них. Именно в такой момент шум города может быть прочитан, и многие характеристики, которые мы можем отнести к этому шуму, также могут описывать проблемы психического здоровья и последствия городской жизни. Как говорит Рабан: «Город, наша великая современная форма, уступчив, податлив для ослепительного и похотливого разнообразия жизней, мечтаний, интерпретаций. Но те самые пластичные качества, которые делают город великим освободителем человеческой идентичности, также делают его особенно уязвимым для психоза и тоталитарных кошмаров». Это первичное состояние города, его бесчисленные противоречивые комбинации и хаос конфликтующих и сжатых сигналов точно представлены алхимическим термином «massa confusa».
Меня беспокоит именно риск психоза, которым угрожает город. Постоянный поток сенсорной нагрузки, предлагаемой городской жизнью, приводит к постепенному искажению внутренних «мета-городов», описанных в модели Рабана, из-за вмешательства множества эмпирических артефактов и осколков. Я чувствую, что эти расхождения постепенно заменяют звучание индивидуального «мягкого города» человека функциональным языком и особенностями «гештальта мягкого города», который логически возникает при стольких людях, сосуществующих в тесной и ограниченной близости (поскольку город Рабана склонен рассматривать либо индивидуальность, либо общность, но редко что-то промежуточное). Социально предписанный город находится в постоянном компромиссе между всеми его жителями. Этот «гештальт мягкого города» способен разрушать общение, запутывать противоборствующие системы частной жизни и контроля; он создает децентрализованную валюту ролей и ритуалов, которая насильно навязывается его обитателям в силу целесообразности, компромисса и необходимости. Другими словами, когда мы создаем город в соответствии с нашими представлениями, потребностями и возможностями, он отвечает, модифицируя нас, иногда жестоко, для своих собственных целей, показывая нам свой оскал, которого мы не ожидали.
Несмотря на поверхностную пластичность, способность принимать форму под влиянием нас и наших изменений, гибкость города может быть угрожающе полиморфной, коварной, непредсказуемой и неуправляемой. Возможности для перевоплощения становятся навязанными. По личному опыту могу описать ощущение того, как город бестактно вмешивается в твою жизнь: живя в Глазго после окончания учебы, столкнувшись с финансовыми проблемами, социальной изоляцией и относительно травматическим разрывом «кокона» студенческой жизни, я чувствовал себя сбитым с толку и затоптанным в огромном безразличном улье. До переезда в город у меня сложилась романтическая мета-картина Глазго в моих мыслях, собранная из множества приятных визитов и впечатлений; однако город быстро разрушил этот мираж. Казалось, город создавал условия для стресса. На работе я невольно имитировал местный акцент, привычки и поведение, чтобы вписаться в коллектив; позволял условиям города запечатлеться во мне, безраздельно следуя временным ролям, между которыми я порхал; по вечерам я возвращался домой и пытался удалить следы вымышленного персонажа из своего организма. Неудачная попытка примирить мягкий образ города Глазго, очищенный от каких-либо неприятностей и трудностей, с моими реальными переживаниями, которые оказались более жесткими, чем я ожидал, стала моментом истины. Я не был готов к этому, но научился на ошибках. Эта необратимая десинхронизация наивных ожиданий и реальности находит отголоски в описании Каверли об упадке фланера как типажа городского жителя перед беспощадным ростом городской застройки: «Среди невидимых процессов промышленного города фланер становится простым винтиком механизма, автоматом, подчиненным давлению варварской толпы, он является не столько героем модернизма, сколько его жертвой».
В этом контексте практику полевой звукозаписи и использование собранного материала в качестве композиционного ресурса можно охарактеризовать как стратегию противостояния тревоге, которую городское пространство способно вызывать; путем укрощения пластичности города и вливания его в свое творчество. Это также способ управления диалогом, гарантирующий, что ваш голос будет услышан, а мысли высказаны. Создание индастриал-музыки – это важный клапан регулирования давления, через который психоз, формируемый городом, может быть подконтрольно выпущен.
Городские осколки
Можно утверждать, что роман Мьевиля, демонстрирующий аккуратный, четко определенный пример раздробленной политической территории, представляет собой сильное упрощение, ибо он ограничен двумя или тремя городами, занимающими одно и то же физическое пространство. Мы недооцениваем распространение городов, которое происходит в умах населения, и шум этих процессов. В своем всепроникающем хаосе противоречивых архитектурных подходов, социополитической идеологии, безостановочного градостроительства, экономических потрясений и грубых, неразборчивых интерполяций истории, современный город в действительности ведет себя как множество городов. Городские осколки, перемешанные друг с другом, истираются, вплетенные в мертвую материю городов прошлого, переориентированные и функционально нарушенные или просто разлагающиеся в качестве импровизированных современных руин. Видлер пишет с резкостью, которая аффективно напоминает шум, особенно в утверждениях, что раздробленная природа городского пространства производит «осколки шрапнели, остроконечные обломки, оставшиеся отбросы, непригодные к дальнейшему использованию, неразрушимые куски хлама […] Их не оставляют лежать там, где они упали, в какой-то дистопической пустоши на границе или на окраине; их затачивают, превращая в оружие, в инструменты, разрезающие ткань города, чтобы пустить в него своих новых обитателей.» В этом сценарии выщербленный зуб средневекового городского вала может одновременно выступать как исторический артефакт, как туристическая достопримечательность, импровизированная музыкальная площадка, ночное пристанище для несовершеннолетних алкоголиков и место антисоциальных действий; самое важное, что это место перестает отталкивать захватчиков. Культурное свидетельство его первоначальной функции становится главным доказательством отсутствия этой функции. Рабан, обращая внимание на свидетельства этих множественных качеств Лондона, заметил:
Его непредсказуемость, резкие переходы от крайнего богатства к тотальной нищете, атмосфера переполнения одиночками, его физические характеристики в виде лабиринта узких улиц и несимметричных полукругов, переплетаются, чтобы вынудить человека вступить в суеверные, спекулятивные взаимоотношения с окружающей средой. Он не в силах, просто изучая благоустройство и удобства района, вывести из них, кто он такой, так как получаемые ответы будут до невозможности разнообразными.
Город можно описать как естественное вместилище шума; безостановочная суматоха неопределенностей и непрекращающихся, какофонических помех. Вторжение в личный разговор или нежеланная музыка, просачивающаяся сквозь стену с плохой звукоизоляцией, непрерывный гул и шквал уличного потока или плотное переплетение разнообразных мини-сред и границ, которые наслаиваются друг на друга в борьбе за пространство – та или иная форма шума является неотъемлемой частью городской жизни; неизбежная уступка. Рабан описывает это как «ситуацию, где несвязность становится автоматическим условием существования».
Психогеограф, такой как Иэн Синклер, распутывает шум города, проявляя его переплетенное множество значений, тотемов, символов, потенциалов и возможностей. Он безоговорочно перенимает этот опыт. Синклер превозносит лабиринт городского пространства как форму игры, изображая взаимодействие с ним как процесс порождения интуитивной кинестетической поэзии. Для других людей это же пространство может представлять собой запутанные катакомбы непостижимых угроз и неразборчивых шифров, карту зачаточных травм. Синклер представляет город, объединенный преображающей силой своей прозы; его фрагментарная природа, хаос «massa confusa», претерпевает временное слияние, мимолетную «coniunctio». Это творческое усиление постепенных «coniunctios», которое вызывает житель города, чтобы функционально согласовать индивидуальную топографию и возможности своего пространства, создать «мягкий город» под себя. В свою очередь, полевой музыкант стремится передать мощную сложность и плотность этого дискурса в звуке, предлагая косвенные синестетические идеи и контрапункты вместо лихорадочного богатства письменного текста.
Как практики, Синклер, Рабан и другие, занявшие свои художественные территории в постситуационистском ландшафте, описывают великую неоднозначность города и извлекают яркое, чистое искусство из своих внутренних запасов. Устойчивая сила их трудов не теряет актуальности, частично потому, что они иллюстрируют распад линейного времени в пространстве города и его фрагментарное восстановление; мгновения вспышек Лондона, запечатленные двумя названными авторами, свидетельствуют о разрывах различных эпох этой метрополии, сталкивающихся в архитектурном меланже. Их тексты, пусть и разнесенные по времени, пропитывают предмет авторским психическим видением. «Мягкий город» Рабана давно уже вошел в пантеон воображаемых Лондонов, созданных бесчисленными авторами и голосами, сосуществующими друг с другом с помощью паутины воспоминаний, опыта и фантазии. Наблюдения Рабана, столь же мощные, как и раньше, теперь несут оттенок непреднамеренной романтики и ностальгической инаковости, освещая причудливую и захватывающую вспышку опыта, ставшего совершенно недоступным с течением времени. И хотя лондонский орбитальный город Синклера («London Orbital») все еще рудиментарно пронизывает свой современный аналог, не в последнюю очередь благодаря необъяснимо устойчивому присутствию нигилистического «Купола Тысячелетия», тем не менее, ему тоже суждено постепенно раствориться в своем потомстве. Синклер пробуждает ощущения и воспоминания, которые интуитивны и интенсивны по своему воздействию, как выброс выхлопных газов, но в то же время эфемерны: «История восстанавливается благодаря смраду, грязной воде, дыму, которые можно почувствовать». Это образы, которые быстро теряют свою форму, затяжные, непрозрачные, суггестивные миазмы частиц. Подобно городам Мьевиля, присутствующее и отсутствующее проплывают перед мысленным взором одновременно. Новое безвременье постмодерна столь же ощутимо в Ньюкасле, где бетонные «когти» заслуженно критикуемого архитектора 1960-х годов Т. Дэна Смита все еще царапают и шрамируют окраины старого города, который им так и не удалось полностью захватить.
Это физическое проявление распада линейного времени в городском пространстве — явление, для исследования которого идеально подходит коллажный метод композиции на основе полевых записей. Коллажный подход, объединяющий различные полевые записи, позволяет разным пространствам и временам аудиально сосуществовать, взаимно проникать друг в друга, связывая события и локации в сложные симбиозы, а также снимая границы между внешним и внутренним, общественным и частным, днем и ночью, подлинностью и искусственностью. Мы получаем творческую огранку формы города через интуитивные и случайные соприкосновения звукозаписей. Результатом этого процесса являются новые воображаемые пространства-гибриды, возникающие из звукового сосуществования, управляемого композитором; экспрессионистский контрапункт города, пронизанный резонансами и отсылками, звукопоэтический комментарий. Важно, что документирование и распространение этого процесса с помощью средств механического воспроизведения позволяет делиться опытом и наблюдениями, преодолевая ограничения их источников. В этой модели vas mirabile композиционной структуры – герметичная оболочка цифровой звукозаписной станции (DAW) – содержит prima materia необработанных полевых записей. Через редактирование, контрастное расположение, фильтрацию и электронную обработку, а также окончательное объединение с композицией или звуковым файлом достигается coniunctio, а индивидуализированное произведение, в котором все звукоряды и знаки сливаются в уникальное и дискретное целое, становится lapis philosophorum, целью алхимического акта.
Как практик, я вижу в индустриальной музыке способ поговорить с городом на понятном ему языке. Аудиальный характер города неизбежно шумный; акустические и индексные свойства бесчисленных спектрально конкурирующих звуков различны и переменчивы, они искажены синестетическим избытком. Озвучивая расколотую природу города, вовлекаясь в его жестикуляцию и эстетику под неукротимым, инстинктивным руководством моего внутреннего «мягкого города», я стремлюсь сделать объективное отображение действующей логики городской жизни более понятным. В этом процессе ключевая роль отведена активному сбору полевых записей — это ресурс, который позволяет мне использовать методологии Ситуационистов и их потомков-психогеографов. Это возможность собирать и переделывать звуковые фрагменты города в творческом контексте, тем самым удерживая их, исследуя их состав через практику и осуществляя успокоительный акт контроля и сублимации. Я занимаюсь созданием аудиальных симулякров — на этот раз городов, которые я знал, — как проводников интроспективного понимания. В этом есть отголоски творческой фантазии протагониста Марко Поло в «Невидимых городах» Кальвино, который вызывает оживленную последовательность гипнопомпических городов перед своим спутником Кубла-ханом; в тексте есть намеки на их универсальное происхождение, поскольку Поло отталкивается от воспоминаний о родной Венеции. Также можно упомянуть повесть Г.Ф. Лавкрафта «Сомнамбулический поиск неведомого Кадата», где показан закатный город; утопия, возникающая из переплетения романтизированных воспоминаний героя повести Рэндольфа Картера. Эти прецеденты, а также примеры Синклера, Рабана и др., являются опорными точками для моего собственного звукового картографирования.
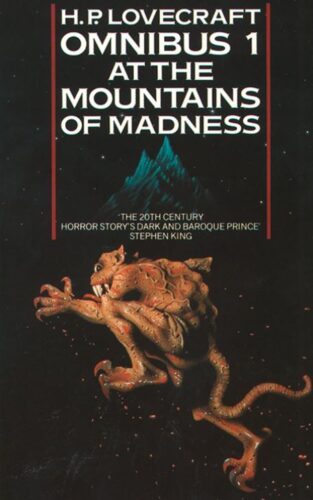
Движемся вперед
В первой части данной диссертации мы исследовали взаимосвязь между городским пространством, психическим здоровьем, шумом и творческой практикой, используя юнгианскую алхимию как опору на ключевых этапах. Это не дискурс, который привел бы к простым ответам на поднятые проблемы; скорее это осознанный междисциплинарный обмен; «перекрестное опыление» на первый взгляд разнородных источников для получения новых идей и взгляда на мельчайшие составляющие, которые поддерживают и активизируют творческую практику. Таким образом, ценность исследования заключается в самом путешествии, а не в конечном результате, что, безусловно, поддержал бы Синклер. На поверхность плодородного дискурсивного поля пробились ростки, подходящие для дальнейшего изучения на следующем этапе диссертации. Каковы долгосрочные культурные последствия деинституционализации? Чувствует ли музыкант свою этическую ответственность как участник более широкой культуры искусства и медиа, которая не всегда имеет интересы по защите уязвимых? Пришло время обратиться к этим и другим вопросам.

 club762.ru
club762.ru






